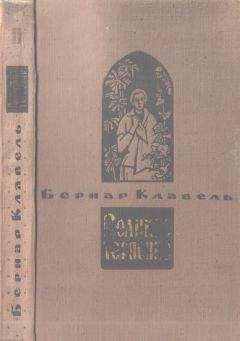— А что, если мне попробовать подавать вам хлебы? — предложил Гиймен.
— Нет, попробуешь, когда будем сажать следующую партию… Печь не так нагрета, как обычно, я предпочитаю не терять ни минуты, — держа лезвие в губах и не выпуская лопаты из рук, пробормотал отец.
Гиймен не настаивал.
Мать чувствовала, что капли пота выступили у нее на лбу, что пот стекает ей на грудь. Она все тем же размеренным движением опускалась или подымалась на цыпочки, чтобы снять с полок плетенки и выложить тесто на лопату. Никто не разговаривал. Только деревянная лопата шаркала по кирпичному поду, черенок стукал по подставке, да отец прерывисто дышал — других звуков не было.
Мать работала все в том же темпе, не думая, что делает. Все время она видела слезящиеся глаза мужа, где-то внутри у нее отдавался его дрожащий голос.
Она старалась что-то припомнить.
Когда все хлебы были посажены в печь, она выпрямилась и, держась за бок, подошла к двери. На улице все еще было темно. Прохлада, струившаяся с крыш в глубине двора, приятно освежала тело, словно прозрачной водой ополаскивала рот и горло.
Мать обернулась. Отец опять отирал пот, но в глазах у него уже не стояли слезы.
Теперь мать вспомнила: она уже видела, как он совершенно так же морщил подбородок, так же часто-часто мигал; она слышала, как дрожал его голос каждый раз, как он рассказывал ей о том времени, когда жил здесь со своими родителями, которых она не знала. Теперь она была твердо уверена, что в ее отсутствие отец плакал. Она поняла, что он оплакивал канувшую в вечность пору жизни, скорбел о прошлом.
У матери больно кольнуло сердце, и вслед за тем по всему телу разлилась другая, более мягкая, почти приятная боль. В первую минуту ей хотелось крикнуть мужу, что он эгоист, что ни о ком, кроме себя, он проливать слезы не станет. Она сдержалась. Она следила за ним, а он подошел к тестомесилке, разговаривая с Гийменом. Он действительно состарился, сильная усталость чувствовалась в каждом движении его тела, в каждой черточке его лица.
Тогда мать взяла ведро и вышла во двор. Из крана, нарушая тишину ночи, потекла вода; мать нагнулась, подставила руки под ледяную струю и как следует смочила себе лицо.
Когда она вернулась с полным ведром, мужчины подготовляли следующую печь.
Мать остановилась на пороге. Несколько раз она быстро втянула воздух, затем уже вздохнула медленнее и глубже. Отец обернулся. Их взгляды встретились, и ей показалось, будто муж улыбается. По тому, как он сморщил лицо, она поняла, что он тоже вдыхал аромат свежевыпеченного хлеба, к которому примешивался запах горящего сухого дерева.
Ночь прошла быстро. У Гиймена, сметливого и привычного к физическому труду, работа спорилась.
— Из тебя вышел бы хороший подручный, — сказал отец.
Мать несколько раз спрашивала мужа, не очень ли он устал, но он только усмехался:
— Ты что, воображаешь, будто я так стар, что уже и в пекари не гожусь?
Однако по его лицу видно было, как он устал. Мать все время поглядывала на него, прислушиваясь к его учащенному дыханию, временами похожему на хрип.
В восемь утра пришел Вентренье. Он поблагодарил их.
— А как будете распределять хлеб? — спросил отец.
— Вот в том-то и дело, что не знаю, — сказал Вентренье со смущенным видом.
— Как не знаешь? Ты, может, думаешь, что мы еще и продавать будем?
Вентренье почесал подбородок и повернулся к матери.
— Я не думал, что вы проработаете всю ночь, — сказал он, — и собирался вас просить…
Отец перебил его:
— Ишь ты, какой прыткий, ты, видно, нас с женой за богатырей считаешь! Это что же — и днем и ночью? Смеешься, нам уже не по двадцать лет.
— Да, видно, придется мне что-то другое придумать.
Он вышел во двор, постоял, вернулся обратно и спросил:
— У вас еще на сколько времени осталось?
— Право, не знаю, — ответил отец. — Думаю еще одну печь сделаем.
— А две не могли бы? — робко спросил Вентренье. — Работают только три булочные. При распределении хлеба подымется такая сутолока. Обязательно надо подыскать людей, да таких, чтобы можно было на них положиться.
Он ушел. Гиймен, который только что отнес корзину с хлебом в булочную, вернулся в пекарню.
— У булочной, должно быть, много народу стоит — барабанят в дверь и в ставни, галдят.
— Вот увидишь, это еще все на нашу голову, — заметил отец.
— Пойду посмотрю, что там делается, — сказала мать. — Никто ведь не знает, что хлеб пекли мы.
— Посмотри, не стоит только выходить на улицу, — заметил отец, — ступай на второй этаж, из окна в коридоре все видно.
Она поднялась по узенькой каменной лестнице, по которой не ходила уже много лет. Прежде она каждый вечер около десяти вечера подымалась по ней, чтобы лечь спать. В это же время она будила мужа, и он спускался на всю ночь в пекарню. В конце коридора было окно с закрытыми ставнями. Мать подошла и посмотрела в щелку, но народ стоял у самой стены, поэтому ей слышен был говор, а видела она только край тротуара и часть мостовой. Надо было отворить окно. Она потихоньку повернула шпингалет, но, когда толкнула ставни, вероятно давно не открывавшиеся, створки распахнулись с таким треском, что мать вздрогнула. Все же она выглянула в окно и сейчас же опять спряталась. Однако ее уже увидали. Раздались голоса:
— Мадам Дюбуа, все знают, что хлеб выпек ваш муж, откройте лавку!
— Мадам Дюбуа, это я, Мари Филипар…
— Это я, мадам Ружен…
— Откройте, мы уже целый час стоим.
Она выглянула еще раз, только на минутку, но успела заметить, что людей очень много. Теперь уже кричали все сразу. Она ничего не ответила, но, прежде чем закрыть ставни, махнула рукой.
Даже закрыв окно и отойдя в коридор, слышала она их голоса, сливавшиеся теперь в один непрекращавшийся крик:
— А… а… а!..
Сойдя вниз, она увидела, что дверь на Школьную улицу открыта, она подумала, что Вентренье, уходя, забыл ее затворить, и уже направилась туда, как вдруг услышала крики в пекарне. Она вернулась во двор.
— Нет, — говорил отец, — чем ты лучше других?
— Не становиться же мне в хвост, ведь я был один из первых.
— Надо было стоять на месте и не лезть с заднего хода.
Мать подошла ближе. Кричавший стоял спиной к двери, но она сразу узнала его. Он служил в газовой конторе и проживал где-то в стороне Монсьеля. Он был высокий и худой, на вид ему можно было дать лет сорок.
— Что случилось? — спросила она.
Он обернулся.
— А, это вы, мадам Дюбуа. Понимаете, я стоял в очереди вместе со всеми. Я был даже одним из первых и вдруг вижу Вентренье. Он говорит: «Пойду скажу, чтоб открывали». И завернул на Школьную, а потом пришел и говорит, что откроют еще не так скоро. Тогда я сообразил, что он вошел с заднего хода. — Он засмеялся. — Я дорогу по запаху нашел.
Отец перебил его.
— С какой стати давать ему хлеб? Хорошенькое дело, если все сюда полезут…
— Это верно, но раз уж он здесь… — сказала мать.
Мужчина усмехнулся.
— Видите, с вашей женой всегда договоришься! — кинул он отцу.
Отец побледнел. Он наморщил лоб, взгляд его сделался колючим. Он шагнул вперед и стал между матерью и корзинами с теплым хлебом, которые Гиймен еще не успел отнести в булочную.
— Нет, — сказал он. — С какой стати? Это было бы несправедливо.
Мужчина обратился к матери:
— Послушайте, мадам Дюбуа, ведь и другие булочные есть. Дайте мне три хлеба, и дело с концом.
— Ничего не получишь, — отрезал отец. — Мы даже не знаем, как распорядится Вентренье, по скольку отпускать на человека.
Мужчина презрительно усмехнулся. Он пожал плечами и направился к двери.
— У вас никто и не просит. Всем известно, что вы жадина! — крикнул он.
Отец бросился к нему. Схватил за плечо и насильно повернул к себе.
— Ты, может, большой и сильный, но я еще могу тебе показать, как пекарь выставляет за дверь бездельников!
Мужчина, сделав усилие, почти высвободился и уже поднял руку, но тут отец другой рукой схватил его за запястье и так скрутил ему кисть, что тот завертелся на месте и взмолился:
— Пустите, вы сломаете мне руку!
— И поделом, — буркнул отец.
— Пусти, Гастон! — крикнула мать. — Ну чего ты, пусти!
Привлеченный шумом, из лавки прибежал Гиймен.
— Что случилось?
— Ничего, — сказал отец, — один такой выискался, хотел пролезть без очереди. Слушай, ты помоложе, проводи-ка его к выходу; а если он будет валять дурака, не стесняйся, поддай ему коленкой под зад.
Отец разжал пальцы. Мужчина потер руку, отошел на несколько шагов и только тогда крикнул:
— Вы еще за это поплатитесь, так и знайте!
— Ори, ори, дурак!
Мужчина отошел еще на шаг, прикинул на глаз расстояние, которое отделяло его от них, и визгливо крикнул.