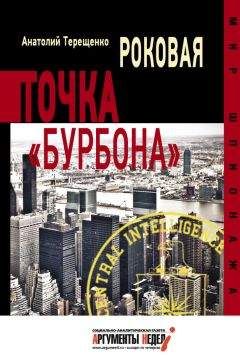Тогда же вечером Иван Сергеич пошел в ЖКО, чтобы поменять эту бумажку на настоящий ордер.
Костюченко ему навстречу вышел, улыбается, гладит по плечу, как барышню.
— Пляши, — говорит, — сержант. Квартирка почти что люкс. До тебя большая шишка жила — главный механик треста. Вот, брат, что дружба может сделать!
И тут Ивану Сергеичу стало тошно до невозможности, хуже чем в проклятом «Антраците», где он сроду не бывал и до смерти уже не будет.
— Забери, — говорит, — свою бумажку. Я лучше еще два года в бараке помучаюсь. Чтоб только ты меня братом не звал.
И ушел, сильно дверью стукнув. А на улице опомнился: «Значит, я еще два года помучаюсь. А Аня как же?»
Часов до одиннадцати Иван Сергеич шатался по разящим всякой химией поселковым улицам. Никак не мог решиться домой идти. Там они уже план нарисовали — Аня с Сережкой, — что куда поставить, что куда повесить. А он придет — и все, рисовать нечего…
Какая же она была женщина, Аня! Как она тогда посмотрела на Ивана Сергеича своими бесконечными глазами.
— Ну, отказался, и ладно… Ты не расстраивайся, Вань. Раз такое твое убеждение, то я даже рада. А то бы ты совестью мучился.
И все. И они сели ужинать…
Правда, через десять дней ордер им дали. Сам председатель постройкома Ефимов позвонил Ивану Сергеичу прямо на участок:
— Что ты, товарищ Мирненко, привередничаешь, в самом деле? Хорошую квартиру не берешь? Мне уж Костюченко жаловался, прямо плакал. Давай приходи, ордер у меня лежит…
Видно, испугался этот Костюченко Ивана Сергеича, решил опередить у начальства, чтоб придраться было невозможно…
И какая была Ане радость от этой квартиры! Бегает по комнатам, хохочет, как Людка маленькая, кричит: «Вива Куба!» Конечно, он сварщик, в своем деле артист, ему квартира — это еще не все… Но ей это прямо праздник жизни был… Почти что первый праздник. И уж безусловно последний…
Иван Сергеич подобрал ее в Германии, под Кюстрином. Она была тогда совсем тоненькая — ручки, ножки, грудка как у мальчика — почти что ничего. Одни глазищи! Они тогда даже еще больше были. До этого он такую девочку только на плакате видел: она там прижалась к стенке и смотрит, а прямо в сердце ей нацелен штык ножевой с фашистским знаком. И надпись: «Воин Красной Армии, спаси!»
Не он лично, не Иван Сергеич ее спас. Потому что с сорок второго года, с самой контузии, он состоял, можно сказать, в обозе. В мастерской по авторемонту. Двигался за фронтом на порядочном расстоянии, варил и латал что придется — порванные крылья у «студебеккеров», оси там, кабины от «оппелей» и «виллисов»… А под Кюстрином было уже почти санаторное житье. Даже две коровы имелись… И помхоз батальона для обслуги и черной работы набрал из лагеря человек двадцать перемещенных. Иначе говоря, девчат, угнанных при оккупации со Смоленщины, из Курской области и из разных других мест.
Ане тогда уже сровнялось девятнадцать лет. Но среди видных девчат, которых со вкусом и пониманием подобрал этот бабник, помхоз батальона, она казалась совсем маленькой. Когда у них началась симпатия, Иван Сергеич сперва даже смущался с ней ходить: вроде неудобно старому черту с молоденькой.
Но она почему-то в него влюбилась. И ласкала его, и целовала в глаза, и говорила, что никого на свете нету лучше и прекраснее. Она так и говорила «прекраснее», хотя у него уже тогда и брюхо имелось, и седина, а нос бульбой — нос был отроду такой.
Но Иван Сергеич не мог ей не верить, потому что Аня была вся ясная, насквозь видная, так что душу у нее можно было читать, как книжку, напечатанную крупными буквами.
Когда у них в первый раз все вышло, она очень переживала, что он может что-нибудь плохое подумать. Она взяла его голову, повернула к себе, так, чтоб глаза в глаза, и сказала совсем тихо:
— Пожалуйста… Ты не думай, я не с немцем… У нас в классе один мальчик был, Валерка… так когда меня в Германию гнали, мы с ним решили, что надо… Мы ж думали, уже все — конец нашей жизни. Все тогда думали, что конец…
— Не все! — сказал он жестоко.
И она горько заплакала, вырвалась от него и убежала куда-то за зону… Два дня потом она пряталась. Он еле разыскал, еле уговорил и отдышал. Он же ничего плохого не думал. Просто хотел сказать про уверенность, что в конце концов победа будет наша. А получилось так, будто он какой-то святой и ее осуждает.
Так он и не сумел объяснить ей все, что хотел. Ни тогда, ни после…
Война кончалась… Кончалась война… Чужой, угрюмый город лежал в развалинах, немцы все стали сразу штатские, ходили с белыми повязками на рукавах и просили «брот» и «цигарете». В расположении батальона мычали коровы и бегали деревенские девчата в вольной одежде… А если кто тут погибал, то ему была уже не общая яма с дощечкой, а отдельная могила с мраморной плитой и золотой надписью… И если тут кто кого полюбил, то пожалуйста, мог считаться как семейный, хотя и солдат…
А потом вдруг, как снаряд в тыловой город, приказ: всех перемещенных немедля отправить на родину.
Иван Сергеич не помня себя прибежал к комбату, — может, как-нибудь оставит Аню… Она полезная — с утра и до ночи на кухне, а может и полы мыть, и за коровами ходить, и что угодно… И куда она поедет — родных у нее никого не осталось, и деревни ее почти что не осталось.
А если требуется какая-нибудь проверка, насчет шпионажа или еще там чего-нибудь, то пусть товарищ капитан сам лично с ней побеседует. Тут и без СМЕРШа видно, какой она человек, как олешек маленький. («Может, бывали в Сибири, товарищ капитан, видели олененков?»)
Но приказ был не капитаном составлен и не полковником. Ничего нельзя было поделать, при всем желании батальонного…
На вокзале Аня стояла спокойная и грустная, среди заливавшихся слезами девчат, безусловно навеки расстававшихся со своими временными ухажерами. Жалко их было, хоть сам плачь… И Иван Сергеич, чтобы она не боялась, что он тоже временный, поцеловал ее при всех и сказал громче, чем требовалось:
— Значит, мама тебя примет как положено, будешь пока в сестренкиной комнате жить…
Но Ане совершенно все равно было, что подумают другие.
— Не надо так громко, — попросила она. — Я пока до себя в Сватовку поеду, — может, кто из родичей еще живой. А если будет твое желание и если оно останется неизменным, ты приезжай или вызови меня куда-нибудь.
Оставшись без Ани, он горько затосковал. Все искал какую-нибудь работу. Хотя, по мирному времени и изобилию трофеев, делать ремонтникам было почти нечего.
Рапортов по начальству Иван Сергеич, конечно, не подавал. Что он, офицер, рапорта подавать? Он только молился богу, в которого не верил, чтоб поскорее подошла демобилизация…
Но одни приказы приходят слишком рано, а другие запаздывают. И он возился в мастерской с разной железной ерундой и все вспоминал тяжелое лето сорок третьего года. Тогда не такой вот инструмент — никелированный, в бархатных коробочках с немецкими вензелями, — простой напильник чудом считался. Тогда сами себе делали инструмент — сами из лома выбирали сталь, и ковали сами, и вручную зубилом делали насечку. Все-таки тогда была война и не было Ани. А тут тоска — и только…
Когда Мирненко наконец отпустили, он не к матери поехал, в далекий город Бердянск, и не к Лизе, сестренке-зенитчице, в недалекий город Коттбус. Он со своей шинелишкой, и продпайком в мешке, и тощими трофеями в чемоданчике поехал прямо в деревню Сватовку, Курской области, где должна была ждать его Аня.
А год уже был сорок шестой. И есть в этой Сватовке, как в половине России, было почти нечего.
Он застал Аню грустной, легонькой, совсем истаявшей. Она даже стеснялась при нем раздеваться, боялась, что он испугается и разлюбит. Но как он мог ее разлюбить!
Аня потом всю жизнь завидовала полным женщинам и мечтала хоть немножко поправиться… «Слушай, — говорила она, — врут бабы, что я немножко круглее стала?» И он говорил: «Конечно, не врут!..» Но так это у нее и не получилось. И она все горевала, не верила, что нравится ему такой вот — кожа, кости да глаза.
…Иван Сергеич больше уже ни с кем не спорил. Он вспомнил Аню, и как-то сразу показались ему маленькими все эти казанцы, и костюченки, и судовы, из-за которых он только сейчас кипел и руки марал.
И больше ему уже невозможно было думать о разных сволочах и самообожателях. И он стал вдруг вспоминать Реваза Шалвовича, котельщика, у которого они с Аней квартировали в Мариуполе. Как он — живой, чернявый, горячий, как уголек, — кричал на Аню, когда она стеснялась занимать хозяйскую кухню:
— Почему я тебе хозяин? Я тебе не хозяин, я тебе товарищ… Зачем обижаешь?
Как он в день получки, к ужасу своей жены, пышной и робкой Русико, покупал сразу на двести рублей харча и выпивки и звал всех, кто попадется. «Я поднимаю этот маленький бокал с большим чувством», — любил говорить он. И действительно, не зря так говорил.