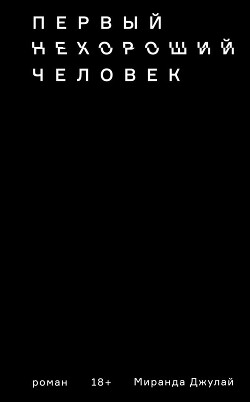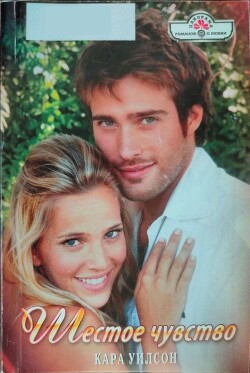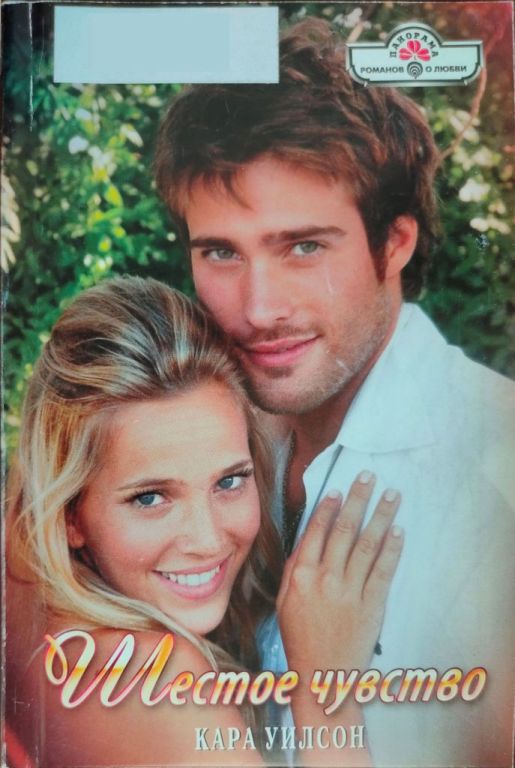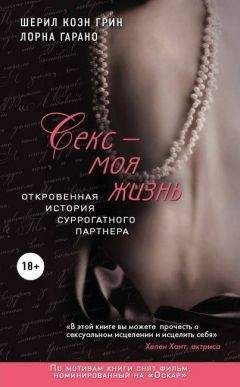– Извини, – сказала я. – Жалко, что я не могу вот это.
Шуп-па, шуп-па.
– Это чего вдруг?
– Да просто мне б ничего было.
Шуп-па.
– Думаешь, я не могу молоко дать?
– Нет, я так не думаю.
– Думаешь, корова может, а я – нет?
Шуп-па, шуп-па.
– Нет, конечно же, ты можешь! И корова может! Вы обе можете.
В тот вечер ничего не получилось. Она поставила будильник на телефоне на два часа ночи, на четыре, на шесть. Ничего. В восемь зашла Мэри – проверить.
– Есть? Нету? Продолжайте. Думайте о ребенке. Как его звать?
– Джек.
– Думайте о Джеке.
Кли приковала себя к прибору. Не желала идти в реанимацию без молока, и я отправилась одна – рассказала Джеку, как его мама старается, готовит ему вкуснейший обед. Когда я вернулась, она все еще качала. Бутылочки пусты.
– Я сказала ему, как его мама старается.
– Ты меня мамой при нем называешь?
– А как? Мамочкой? Матерью? Как мне тебя называть при нем?
Шуп-па, шуп-па. Глаза у нее вскипели раздражением.
– Блядь. – Она ударила по прибору кулаком, с невероятным грохотом сбив со стола чашку и вилку.
Шуп-па, шуп-па, шуп-па.
Восход, она трогала мне ухо. Мне снилось, что прибор работает, но нет, все тихо, восход, а она трогала мне ухо. Водила пальцем по безупречным очертаниям. В нашу крошечную палату пробирался первый свет. Я улыбнулась ей. Она улыбнулась и показала на тумбочку. Молоко. Две бутылочки, по восемь дюймов молока в каждой.
Кли выписали на следующее утро. А Джека, разумеется, нет. Доктор Калкэрни сказал, что его выпишут, когда он сможет выпить две унции молока и как следует их усвоить.
– Думаю, недели две, – сказал он. – Или меньше. Или больше. Пусть покажет, что способен усваивать пищу – всасывать и глотать.
Доктор Калкэрни собрался уйти. Я помедлила: чтобы собрать все грани моего вопроса воедино, потребовалось какое-то краткое время. Я задумалась: может ли моя жизнь – жизнь, где у меня есть сын и красивая юная возлюбленная, – способна существовать за стенами больницы. Или больница – ее вместилище? Не была ли я как мед, думая, что я – медвежонок, и не понимая, что медведь – лишь силуэт банки меда?
– Догадываюсь, о чем вы думаете, – сказал доктор Калкэрни.
– Правда?
Он кивнул.
– Слишком рано говорить, но пока он прекрасно справляется.
Мы сказали Джеку, что утром вернемся, и, когда ушли, – вернулись, потому что я забыла сказать «я люблю тебя» – Я люблю тебя, картошечка моя сладкая, – и затем все же ушли вновь, нетвердо шагнули из центральных дверей на солнце. На заднем сиденье такси держались за руки. Улица выглядела как обычно. Сосед в двух домах от меня выкатывал мусорные баки и смотрел, как мы бредем к двери. Кли принялась выбираться из туфель.
– Не обязательно.
– Нет, я так хочу.
– Это теперь твой дом в той же мере, что и мой.
– Я уже привыкла.
Все было так, как мы оставили. По всей спальне – засохшая кровь. На кухне с потолка гроздьями свисали улитки. Полотенца лежали в странных местах. Риковы тазы с горячей водой стояли на туалетном столике, остывшие. Я быстро прибралась, пока Кли откачивала, сдернула спальный мешок и засунула его в бельевой шкаф.
Перед тем как впервые забраться ко мне в постель, она пробубнила извинения за то, как пахли ее ноги.
– Цветотерапия не помогла.
– Мне тоже.
– Ты знала, что жена доктора Бройярда – знаменитая голландская художница Хелге Томассон?
– Он сам тебе сказал?
– Нет, кое-кто в приемной.
– Секретарша?
– Нет, другой пациент.
Мы забрались под одеяло и взялись за руки. Изменять домохозяйке – объяснимо, он мог так поступать лишь ради интеллектуальной бодрости, но стыд и позор доктору Бройярду за неспособность дорасти до Хелге Томассон. Я о ней никогда прежде не слышала, но она, очевидно, была женщиной потрясающей. Кли на миг положила мне руку на живот и убрала ее.
– Доктор Бинвали говорил, мне можно секс через два месяца.
Я улыбнулась, как чья-нибудь нервная тетушка. Этот вопрос не поднимался с того первого дня. Некоторые женщины просто целуются, гладят друг друга по спинке и на этом всё. Я задумалась, не вернется ли ее былая свирепость. Может, будет как в симуляции. Мы, может, начнем с «парковой скамейки» – она схватит меня за грудь. Но я не стану отбиваться, а просто позволю ей меня изнасиловать. Надо ли нам будет приобрести резиновый пенис? Я видела лавку таких штуковин в универмаге на Сансете, рядом с зоомагазином.
– Мышцы, – сказала она. – Не будут сжиматься.
Оргазм. Вот чего ей не видать два месяца.
– Но я могу тебе. Если хочешь.
– Нет-нет, – быстро сказала я. – Давай подождем. Пока обе не сможем. – Мне нравилось так разговаривать – чтобы оставлять глаголы за скобками. Может, мы их никогда и не произнесем.
– Ладно, хорошо. – Она сжала мне руку. – Надеюсь, смогу столько прождать, – добавила она.
– Я тоже, ждать очень трудно.
Я проснулась внезапно, как пассажир самолета, – на миг почувствовала, как высоко нахожусь, и пережила соответствующий ужас падения. Три часа ночи. Мы его оставили. Крошечного его. Он был один в реанимации, лежал в пластиковом ящике. Ох, Кубелко. Внутри меня сгущался вой; боль казалась нечеловеческой. Или, может, это мое первое человеческое чувство. Оденусь и немедленно поеду в больницу? Я подождала, чтобы понять, поступлю ли так. Глянула на ее золотые волосы, разметанные по подушке, которую я обычно клала между ног. Ничто из этого не продлится долго. Это все нелепая греза. Я выпихнула себя из сознания.
Радио и солнце неистовствовали.
– Какую музыку ты любишь? – спросила Кли, перебирая трескучие станции. Я протерла глаза. Свое радио с часами я всегда использовала исключительно как часы.
– Спорим, тебе вот это понравится. – Она задержалась на кантри и глянула на меня. – Нет? – Покрутила дальше, вглядываясь мне в лицо. Пронеслось несколько видов разной гремучей и удручающей музыки.
– Может, вот эта.
– Эта?
– Мне нравится классика.
Она включила погромче и улеглась, обняв меня. Любимой музыки у меня не было. Рано или поздно придется ей это сказать.
– Вот эта может быть нашей песней, – прошептала она. Ей не терпелось обрести подругу жизни.
Мы дослушали до конца, чтобы узнать название; песня оказалась невыносимо долгой. Наконец послышался снобский британец. Мы только что прослушали грегорианский хорал VII века под названием «Deum Verum»[20].
– Необязательно, чтобы это было нашей песней.
– Поздно.
Джека мы навещали каждое утро и каждый вечер. Заходя в реанимацию в больничных рубашках и с чистыми руками, я всякий раз страшилась новостей, но он ежедневно становился все крепче. Кли считала, что нам уже ничто не угрожает, и, похоже, так оно и было: все медсестры говорили, что он самый крепкий белый младенец, каких они вообще видели. Мы преобразовали гладильный чулан в детскую и купили ползунки, подгузники, салфетки и колыбель, а также пеленальный столик, пеленальную доску и пеленальную простынку для пеленального столика, и мягкий поддон под названием «спальник», и набор первой медицинской помощи, и ванночку в форме кита, и детский шампунь, и детский тряпицы для мытья ребенка, и полотенца, и одеялки, и салфетки для срыгивания, и писклявые игрушки, и тряпичные книги, и видеомониторчик, чтобы следить за младенцем, и сумку для подгузников, и бак для подгузников, и дорогой личный прибор для откачки молока, а к нему – персональный ящик для переноски. До того, как Джек сможет брать грудь, оставалась еще по крайней мере неделя, но он уже пил ее молоко через трубочку.
– У него сильный мотор, – приговаривала Кли с нежностью. – В точности такой же, как в строительных инструментах и в блендерах, которые профессиональные пекари для теста используют. В точности такой же. – Она носила лямку ящика поперек груди, как велосипедную курьерскую сумку.