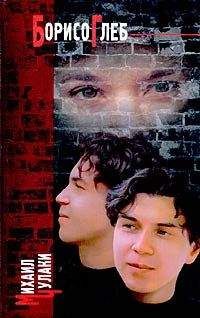Пупочка надела на Клаву белье, и Клава подумала, что отработала сполна авансом полученный гарнитур. Потом толстуха натянула и свои слоновые штаны.
И вывела наконец на кухню, где Наташа в одиночестве смотрела телевизор.
– Хорошая девочка, – сообщила толстуха, не дожидаясь вопросов. – По всей программе оправдала.
– Ну так прекрасненько, – равнодушно кивнула Наташа.
– До свиданьица, – толстуха пощекотала Клаву под подбородком. – Жди свою Пупочку.
И выплыла. Наташа за ней.
Клава присела к столу. Налила фанту из стоящей бутыли. Хватила залпом, как иногда папусик стакан белой – не для правомерного принятия, а от настроения.
Полегчало.
Значит, не важно, что пить – важно залпом.
Ничего, пережила. Зато Пупочка подарки обещала. Может, уже оставила чего.
Вернулась Наташа. Веселая.
– Ну и молодец. Такую осетрину ублажила. Белугу. Талант – везде талант. Под любой клиентурой. Поесть хочешь?
– Ага.
– Сейчас. Устала, девочка?
– Ага, – подтвердила Клава охотно, довольная, что ей сочувствует хозяйка.
И получила нежданную пощечину.
– Чтобы слово это забыла, поняла? Устала она! Ты под хороший трамвай попади! Колымский, настоящий! Бригаду бендюжников через себя пропусти, тогда устанешь! Тут у меня ласки-сказки, поняла? Курорт бесплатный! Ну как, силы есть?
– Есть.
– Устала?
– Нисколечки!
– Вот так чтобы всегда. Еще одна будет гостья к тебе. Только не осетрина. Скорее, стерлядь, – усмехнулась Наташа.
О подарках, будто бы оставленных Пупочкой, Клава спросить не решилась.
Стерлядь пришла совсем вечером.
– Вот Клавочка у нас, – объявила Наташа. – Хорошая девочка. Гостье рада.
– А меня зови Зоей.
Тощая, черная, худая – она похожа была на торговку южной зеленью. Клава с мамусенькой часто ходят к закрытию рынка, когда можно выторговать порченный товар по дешевке. Но у сухих баб выторговывать трудно. Лучше у мужиков. Масляных.
Только глаз таких даже у жадных торговок не встретишь: иссиних и словно бы застывших – проникающих.
– Добрый вечер, – старательно улыбнулась Клава.
– Хорошая девочка. Гарная.
Она говорила совсем по-русски, не как узбечка с рынка. Но не по-нашему, а по-южному: с «Хы» вместо «Гы».
– Ну и дружитесь вдвоем, – пожелала Наташа в дверях.
Клава подумала, что с этой будет все-таки легче: не придушит складками с живота.
Зоя села в белое глубокое кресло, не на кровать. Хлопнула себя по колену.
– Сядь сюда.
Клава поспешно вспрыгнула на указанный насест.
– Давно здесь бедуешь, Клавка?
– Давно. С вечера.
– Да-авно, – засмеялась Зоя.
Клава повторила с ее интонацией:
– Да-авно, да! – и тоже засмеялась.
И сразу стало с Зоей хорошо. Лучше даже чем с Наташей. Не злая Зоя – только напрасно показалось.
– Чего робишь тут?
Даже Клава расслышала, что Зоя так говорит нарочно по-южному. «Робишь». Для веселья.
– Отдыхаю. Сплю вот, – кивнула на кровать.
Шутить – так вместе.
– Одна?
– Не-а.
– С мужиками?
– Не!
– С бабами, значит?
– Ага.
– Греха не боишься?
Так же легко и быстро спросила – но все-таки иначе. Со значением.
– Не. Где ж тут грех?
– А не обнимали разве? А не раздевали?
– Так с бабами раздеваться, какой грех? Как в баню сходить, – отхитрилась Клава, хотя понимала, что совсем не как в баню.
– Ой, врешь! А с девочками-врушами я, знаешь, что делаю?
Клава промолчала.
– Так что с врушами делать, а? Ну, говори сама!
– Пороть надо, – подыграла Клава, понимая, что порки все равно не избежать.
Так уж коли пороться, лучше весело.
– Вот теперь правду говоришь. Так что, пора тя выпороть?
– Пора, – наигранно вздохнула Клава, расстегивая молнию на джинсиках.
– Ну иди, ляжь. Только помолись сперва.
– А как? – удивилась уже искренне.
– А ты молиться не умеешь? В церковь ходила с маткой?
– Ходила.
– Молилась?
– Молилась.
– А порола тебя матка за лень и избежание?
– Порола, – кивнула Клава, хотя и не поняла, за какое «избежание». – Только больше папка.
– А молилась перед тем?
– Не-а.
– А чего тогда толку? Даже жалко. Хорошая мука, а пропала зазря. Порку надо со смирением принимать, с молитвою. Это твое малое искупление детское. Сама должна к мамке подходить, ремешок принести и ручку поцеловать. Сказать: «Мамочка, грешна я, поучи любя». И помолиться перед ремнем: «Госпожа Божа, суди меня строже, за малый грешок, секи поперек, боль стерплю, на радость улетю». Поняла?
Клаве показалось, Зоя как-то странно произносила обычное «Господи-Боже», но не посмела переспросить.
– Поняла.
– Ну и повторяй за мной.
Клаве даже понравилась молитва. Терпение ее получало какой-то смысл.
Молитву прочитали хором. На последней строке Клава повысила голосок, перекричала Зою:
– «Боль стерплю, на радость улетю!»
– Вот так. Теперь и пострадать в радость.
Клава разом спустила все штанишки – и наружные джинсы, и внутренние кружавчики. И уже спущенная пошагала к кровати.
– Ну гляжу, гляжу: смирение в тебе есть. А ты правда девочка непочатая?
– Правда.
– А если врешь?
– Ей-богу!
– Смотри. Если соврала, никакой мукой не отмолишь. Дай-ка проверю.
Клава уже привычно приняла проверяющий палец.
– Правда. Хорошо, девочка. Раз уж помолились, надо тебя постегать легонько, чтобы не обманывать Госпожу.
И Зоя ударила несколько раз плеткой несильно – понарошку почти. От такой доброй женщины Клава готова была терпеть и втрое.
– Хорошая девочка, и Госпожа Божа тебе помочь хочет. А ты хочешь, чтобы тебе сама Божа помогла?
– Хочу, – сказала Клава совсем искренне.
– И не испужаешься?
– Не.
– И терпеть будешь всё?
– Да.
– И слушать по слову?
– Да!
Вопросы нарастали – по голосу и скорости. И ответы звучали всё восторженнее.
– Слова против не скажешь?
– Не.
– Неверным не поддашься?!
– Не!
– Отца-мать забудешь?!
– Да!
– Кроме Госпожи Божи никого не полюбишь?!
– Не!
Зоя погладила по голой попке. И снова заговорила обыкновенно:
– Вот и хорошо. Оставлять тебя здесь нельзя. Будешь теперь с новой семьей жить. Одевайся пока.
Клава снова натянула всё свое. Белье с кружавчиками, правда, было чужое, но она его вдвое отработала. Ведь противная Пупочка подарки за нее Наташе оставила, а та и не показала.
– Уйдем тихо, поняла?
Клава уже любила новую свою хозяйку Зою и не жалела бросить Наташу.
Они вышли в коридор. Из кухни доносился телевизор, заглушая их шаги.
Выходная дверь облеплена была изнутри несколькими замками, но Зоя с легкостью сыграла на замках, как на струнах гитары.
Дверь со щелчком открылась и выпустила беглянок.
Клава немножко боялась погони, но Зоя держала ее за руку – и отвечала за всё.
На улице не ждала Зою классная машина. Жалко.
Но Зоя уверенно остановила такси.
Приехали они куда-то на окраину. Клава не понимала, куда. Городские многоэтажки стояли между деревьев – словно в разреженном лесу.
Но машина остановилась на пустыре у чужого в городе досчатого забора – выше самого высокого роста. Зоя отперла ключом калитку, приоткрыла слегка, и они вдвоем протиснулись внутрь. И калитка снова заперлась за спиной.
На участке виден был двухэтажный дом с темными окнами, а больше ничего не разглядеть.
– Пришла ты в корабль наш спасательный, – шепотом, но торжественно возгласила властная проводница.
Только подойдя вплотную, Клава разобрала, что дом весь деревянный, бревенчатый. Дверь тоже была заперта. Зоя отперла, впустила Клаву и заперла за спиной.
– Ступеньки тут, – шепнула Зоя попросту, не так, как про «корабль спасательный», но свет не включила.
Нащупывая ногой, Клава стала подниматься по крутым ступенькам.
Старый этот барак не обещал блеска и кафеля Наташиной квартиры, и Клава жалела уже, что убежала.
Ступеньки кончились, и Зоя повела ее в темноте по скрипучему полу.
Дверь вдруг открылась, и Зоина рука втолкнула Клаву в сияние – и удержала на пороге.
Комната или большая зала вся была увешана иконами, так что не видно стен. Перед каждой иконой горела лампада, огоньки лампад отражались в золоте и серебре красок, отчего казалось, что светится сам воздух внутри золотой залы. И даже потолок был расписан светло как небо, и тоже отражал свет. Или излучал.
Икон-то столько, что больше и невозможно, но показалось, что они какие-то не такие.
Приглядевшись, Клава уверилась, что точно – не такие.
Она бывала с мамусенькой в церкви много раз в соборе у Спаса Преображения, и все святые пугали и притягивали ее своей строгостью. Друг от друга она их не различала – все лики бородатые, со впалыми щеками, а нимбы золотые как соломенные шляпы. И только Богородица без бороды – но тоже темная и иссохшая.