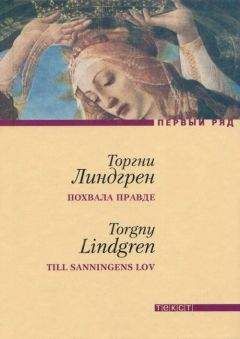— Вообще-то у человека нет внешнего облика, — сказал хирург. — Внешний облик — всего лишь плод нашего воображения.
И мы выпили за Шопенгауэра.
Немного погодя я различил на берегу какую-то маленькую постройку и спросил, кивком показав на нее:
— Что это там?
— Моя часовенка, — ответил он. — Я построил ее в первую очередь для себя. Но она всегда открыта, для всех.
И он тряхнул головой, отбрасывая непокорную прядь волос, которая то и дело падала на глаза.
В моем рассказе все чистая правда. Но, говоря о нем, я кое-что изменил, никто его не опознает, не сможет ни в чем обвинить. Он выглядит совсем не так, как я упоминал, и на Клауса Манна с дарделевского рисунка не похож, и непокорную прядь волос я придумал. И стокгольмская его приемная находится не на той улице, какую я назвал. Хотя загородная усадьба, где мы сидели, не выдумка.
Пригладив рукой непослушный вихор, он сказал:
— Мне иной раз сдается, будто все, что мы создаем или усваиваем, суть просто некие отражения. Наши поступки отображают нас самих. Часовня и все прочее здесь — составная часть моего внешнего облика.
Мы пили портвейн.
— Звучит сложновато, — сказал я. — Или абстрактно. Я думал, ты ориентируешься главным образом на фактическое, конкретное.
— Да, — сказал он. — Собственно говоря, я обыкновенный ремесленник. Хоть и лучший в Швеции. С тем же успехом я бы мог быть багетчиком. Но я всегда ищу идеи и доктрины, которые могут оправдать мою сноровку. И сделать ее грандиознее, чем она есть на самом деле.
— Христианство, — сказал я.
— Ну что глупости говорить! — воскликнула Паула.
— А ты прав, — сказал он. — Обратиться. Стать новым человеком. Родиться заново. Я думал об этом.
— Твое ремесло попросту отражает твою веру, — сказал я.
— Да, так оно и есть.
— Для нас с Паулой, — сказал я, — все это только каприз. Шальная мысль, и больше ничего. Надо ведь на что-то использовать наши деньги.
Собственно, он не хотел брать с нас денег, настаивал, что сделает все бесплатно, как подарок Пауле. Но в конце концов мы таки всучили ему пластиковый пакет с деньгами. Теперь черный ларец удалось закрыть как полагается, а ремни выбросить.
Я рассказал ему про дедовы фортепиано. И он явно заинтересовался, сказал, что сделает все возможное, чтобы приобрести такой инструмент:
— Для клиники это как раз то, что нужно.
Мы вообще необычайно много говорили в те месяцы, что оставались там. Больше-то делать было нечего. Ни тебе газет, ни радио, ни телевизора, внешний мир не существовал. Других пациентов, наверное находившихся в клинике, мы не видели.
Через несколько дней разговаривать стало затруднительно, мы были сплошь в пластырях и повязках — только узкие щелки для глаз да круглая дырочка для рта. Чтобы снять боль, нам давали таблетки. А питались мы исключительно кашей, бульоном и вином. И говорить начали по-новому, скованно и по-детски, с некоторыми согласными никак не справлялись.
Однажды вечером я спустился в часовню и сел там на скамью. И тут пришел он. Сел рядом. Алтаря в часовне не было, только копия «Явления Марии святому Бернарду» Перуджино.
— Христианство, — невнятно прошепелявил я сквозь дырочку в повязках, — что оно, собственно, значит для тебя?
Он ответил не спеша. Объяснение получилось долгое и обстоятельное. Вкратце он сказал примерно вот что. Христианство выстроено из несчетного числа представлений, одно безумнее и нелепее другого, и, если рассматривать их поочередно, не найдется ничего, во что можно верить. Но в совокупности эти представления создают абсолютно правдивый образ бытия.
Думается, я понял, что он имел в виду. И в течение тысячной доли секунды тоже был христианином.
В другой вечер мы втроем — он, я и Паула — стояли на открытой террасе и слушали какие-то звуки, по его словам — крики филина. И он сказал:
— Кто бы знал, как рождаются такие вот решения? Когда появляюсь я, возврата уже нет.
Это он сказал обо мне и Пауле.
— Просто возникла необходимость, — сказала Паула. — Нам нужно от чего-то скрыться, Бог весть от чего. От случая или чего-то еще.
— В Роя Чарлза Сулливана молния ударяла семь раз, — сообщил я. — Его прозвали живым громоотводом из Виргинии. Он остался без ногтей, без бровей и волос, одну голень пришлось ампутировать.
— Господи! — воскликнула Паула. — Чего только не бывает!
Через полтора месяца пришла пора снимать повязки. Он сделал это собственноручно.
Процедура заняла целый час, все это время я лежал на кровати в своей комнате. Потом он оставил меня наедине с зеркалом. Фантастика! Я был совершенно неузнаваем.
После меня он пошел к Пауле. Она рассказала мне, как все было.
Ей он тоже велел лечь на кровать. И стал медленно, осторожно снимать повязки, она ничего не чувствовала, вернее ощущение было такое, будто он занят совсем другим. Шрамы он разглаживал большими пальцами. Наконец выпрямился и посмотрел на нее.
Смотрел довольно долго, потом прикрыл глаза рукой. Бинты кучей лежали у его ног. Он отошел к окну, устремил взгляд в парк. Немного погодя откашлялся и сказал:
— Я не виноват. Я действительно сделал все, что мог. Но, клянусь, любить тебя я больше не могу.
Правда, она его не слушала. Или не обращала внимания. Она уже стояла перед зеркалом и обеими руками разглаживала лоб и щеки, пощипывала новый подбородок и смеялась, да так неудержимо, что даже я слышал, хотя моя комната находилась в другом конце коридора.
Ужинали мы все вместе. Старательно делая вид, что все по-старому. Я узнавал Паулу по голосу и по пальцам, которые постоянно что-то теребили — столовый прибор, бокал, кусочек хлеба. По-моему, работая над ее лицом, он держал в уме образ Венеры Боттичелли. Каждая линия, каждая тень — само совершенство. Она почти не ела, не в силах отвести взгляд от моего нового мужественного лица и кудрявой шевелюры. Наконец-то увидела меня таким, каков я на самом деле.
Он наверняка заметил, как мы нетерпеливы и рассеянны. Сам не говорил ничего. Сосредоточенно и несколько машинально ел, глядя в тарелку. Уже за десертом мы сказали, что хотели бы остаться одни. Если он не обидится. И если это не слишком нагло с нашей стороны.
А потом мы сразу же сказали это друг другу, выдохнули из уст в уста. Она любила меня, а я любил ее.
Выяснив этот вопрос, мы очень долго молчали. Паула скатала шарик из хлебного мякиша и сунула в мои крепкие, красивого рисунка губы.
Даже коньяк, поданный к кофе, не подвиг нас начать разговор, как раньше, как говорили наши прежние, сброшенные «я».
Мы лишь обменялись несколькими короткими фразами. Сказали, что все хорошо. Очень удобно и очень кстати, что мы любим друг друга. Собственно говоря, это необходимая и неизбежная предпосылка того, что все сможет кончиться по-настоящему счастливо.
Еще через неделю шрамы поблекли и исчезли. И мы приготовились к отъезду.
Все было улажено. Мы получили новые имена и личные номера. И паспорта. И ИНН, и членские карточки Общества потребителей, и страховые полисы, и жетоны с личными данными. Все, что делает нас людьми.
И приехали сюда. Море шумит довольно мягко и на довольно большом расстоянии. Паула может петь сколь угодно громко, и никто ее не услышит. Нам наконец-то дано быть самими собой. Все время. Каждое утро я смешиваю «Für immer selig» в оплетенной двухлитровой бутылке. Иногда играю «О sole mio». Окрестный пейзаж выглядит как подлинное, от руки писанное маслом полотно Стрёма, этот мир есть воля и представление, а больше ничего. Птицы поют час вечером и час утром. Цветут вишни. И персики. А когда не цветут, на них зреют плоды.
Я писал этот рассказ, используя вместо стола перевернутый черный ларец. Отчет подошел к концу, сейчас я соберу бумаги, и снова станут видны прадедовы замысловатые буквы. Собственно, я мог бы ничего не писать, просто удовольствоваться посланием, которое он вырезал финским ножом. СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ.
Дардель Нильс фон (1888–1943) — шведский художник и график. (Здесь и далее примеч. переводчика.)
Оскар II (1829–1907) — шведский король с 1872 г.
Эрнст Макс (1891–1976) — французский художник-дадаист, по происхождению немец.
Нольде Эмиль (1867–1956) — немецкий художник-экспрессионист.
Перевод В. Бакусева.
«За мастерство и искусство» (лат.) — высшая шведская награда за литературно-художественные достижения; учреждена в 1853 г.; ныне присуждается в первую очередь деятелям сценических искусств.
Прай Герман (p. 1929) — немецкий оперный певец, баритон.