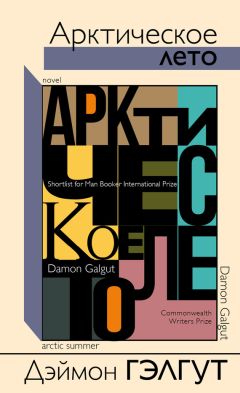Ужасно. Ужасно даже думать об этом. Морган максимально приблизился к реалиям войны. И сам театр военных действий теперь был ближе, хотя все еще оставался на приличном расстоянии.
«После атаки они лежат между траншеями, и запах стоит ужасный, особенно когда светит солнце и дует ветер».
Он думал о телах, сжигаемых в Бенаресе. Многочисленные костры, жар которых ощутим даже на большом расстоянии, запах сандалового дерева и горящей плоти – воздух от этого делается спертым и нездоровым. Каким бы равнодушным ты ни хотел оставаться, твой беспокойный взор неизменно устремлялся к запеленатой фигуре в центре костра. Одна из них, как помнил Морган, у которой непроизвольно сократились мускулы, вдруг воздела руку к небесам и держала ее так, пока слуга не разбил обгоревший остов палкой.
Нельзя было так концентрироваться на мертвых; лучше обратить внимание на живых, к которым относились и эти раненые солдаты. Большинство из них должны были провести в госпиталях неделю-две, после чего их вновь отправят в ад; но, по крайней мере, хотя бы две недели на них будут смотреть как на людей, а не как на пушечное мясо, за ними будут присматривать, заботиться о них, держать между свежими простынями. Морган был рад дать волю своим братским (а может, материнским?) чувствам. И одним прекрасным днем в ответ на заботу он получил нечто божественное, причем там, где менее всего ожидал.
Госпиталь в Монтазахе, за восточной окраиной города, когда-то был дворцом хедива, и его элегантно-величественный вид неизменно радовал Моргана. Подъезжая от станции по аллеям цветущих олеандров, он каждый раз по-новому открывал для себя гармоничную комбинацию изразцовых стен, беседок и мавританских арок. Госпиталь располагался в саду, где среди рощиц тамариска росли розы и перечные деревья. С края скалистого утеса, с террасы, за дворцом открывался вид на залив с прихотливо вырезанной береговой линией, украшенной очаровательными рифами, мысами и волноломами. Моргана настолько очаровал этот вид, что он не сразу обнаружил ведущие вниз ступени, вырезанные в камне. Когда же спустился, то был поражен, увидев в сем прибрежном Эдеме огромное количество мужчин разной степени обнаженности. Их были сотни – маленькая доброжелательная армия, воины которой обнажили грудь и ноги, а многие и вовсе разделись донага, чтобы играть, плавать, удить рыбу, бороться, болтать, слушать небольшие оркестры, которые здесь же импровизировали, качаться в гамаках или просто бесцельно слоняться туда-сюда. Никто на Моргана и внимания не обращал – каждый всецело погрузился в созерцание самого себя. Будто видение рая – но еще более того Морган был ошеломлен на закате солнца, когда, придя на вершину поросшего деревьями небольшого холма, увидел, что его как короной опоясывает цепочка мужчин. Среди пурпурных теней и оранжевых всплесков света их коричневая кожа сияла наподобие разогретого металла, и сияние это оттенял голубой цвет их льняных шорт и розовато-лиловый тон рубашек.
Вскоре Морган вернулся туда, а потом возвращался еще и еще. Это место не переставало удивлять и восхищать его, но особенно эффектным оно бывало именно в часы заката, когда все краски горели особенно ярко. В один из таких моментов он оказался на пляже один и достаточно осмелел, чтобы освободиться от формы офицера Красного Креста. И вот он оказался стоящим по пояс в воде в одних трусах, а потом к нему на осле подъехал молодой солдат и принялся раздеваться. Морган смотрел, как совершенно нагой юноша пытается затащить осла в воду, а тот упирается, направляясь в противоположную сторону. Осел в конце концов вышел победителем, но Морган сохранил в памяти те моменты их противостояния, когда красный отсвет солнца трепетал на напряженных мускулах молодого человека, а песок, взрытый копытами упирающегося животного, оказался расчерчен полосами, подобными перьям. Настоящая картина, обернувшаяся реальностью, чья красота предназначалась только для него одного.
* * *
Как-то, идя по волнолому, Морган услышал обрывок разговора, который заставил его замедлить шаг. Остановившись, он обернулся и спросил:
– Кто из вас принадлежит Королевскому полку Западного Кента?
– Мы все, сэр, – получил он ответ.
– А знаком ли вам Кеннет Сирайт?
Послышались одобрительные восклицания. Ну как же! Они все его знали. Самый дружелюбный офицер в полку! Прочие офицеры не так хорошо относятся к рядовым. Отличный товарищ!
– Он не здесь, не с вами? – спросил Морган.
Нет, Сирайт остался в Месопотамии. Там было спокойно, хотя Сирайт не любил покоя. Сами они дрались в Турции. А один из молодых людей, лукаво смотревший со стороны, спросил Моргана:
– А где вы познакомились с капитаном, сэр?
– Мы… мы вместе плыли в Индию, – ответил Морган.
Его голос дрогнул и затих. Как памятен был тот разговор – сияющее море, ароматы Аравии в воздухе. И слова, неожиданные слова: «Во всем виновата жара». Морган побывал в Индии, но жара не сломила его, и он остался вполне респектабельным англичанином.
Неплохо было бы рассказать об этом Сирайту, повстречайся они вновь. Другие люди, как правило, признаются в собственных грехах; он же, Морган, мог сознаться лишь в отсутствии оных. Весьма постыдное обстоятельство, если подумать; нечто вроде деградации.
Размышляя об этом, он нетвердым шагом покинул волнолом и вышел на берег залива. Был почти полдень, и жара стояла почти невыносимая. Камни, деревья могли послужить здесь препятствием, особенно при высоком приливе. То, что он счел поначалу проходом, обернулось тупиком, и Морган повернул было назад, когда обнаружил, что он не один.
Молодой человек, солдат, с перевязанными руками, мочился на корни дерева. На нем были короткие брюки, которые он, занимаясь своими делами, расстегнул, но когда закончил, застегнул не полностью. Он окинул Моргана почти враждебным взглядом.
– Вы говорили со мной, – сказал он.
– Прошу прощения, я молчал.
– В палате, на днях. Помните?
Морган пребывал так далеко от обычных своих занятий, что ему потребовалось время, чтобы понять, где он и что происходит. Конечно, он беседовал с ним на той неделе. Саму историю он не вспомнил – молодой человек не произвел на него особого впечатления. Маккензи? Или Доддс? Ранен во время атаки? Среди пациентов госпиталя встречались такие, кого не замечаешь, хотя этот парень был вполне заметен – напряженный и сердитый.
– Что вы здесь делаете? – спросил солдат.
– Пытался найти дорогу, – ответил Морган.
– Здесь нет дороги.
– Теперь уж вижу.
С минуту они разглядывали друг друга. Доддс или, может быть, Маккензи был рыжеволос, с усыпанным веснушками лицом.
– А вы? – спросил Морган.
– Что – я?
– Что вы делаете здесь?
– О, я ищу. Просто ищу, – ответил солдат.
– Что ищите? – не понял Морган.
– Приключений, – ответил солдат, и лицо его расплылось в улыбке.
Теперь он казался не таким сердитым. А возможно, лицо его сделал мягче свет.
– Вас может удивить, что здесь можно найти, – продолжил он. – Идемте, и я покажу.
Морган последовал за ним за поворот, откуда уже не было видно ни моря, ни пляжа. В этой расщелине скалы было влажно и прохладно, но не было видно и намека на приключения, о которых толковал молодой человек, за исключением того, что он обернулся к Моргану и тронул того за китель.
Морган почувствовал тревогу и дрогнувшим голосом спросил:
– Чего вы хотите?
– Того же, чего хотите и вы.
– Я не понимаю.
– Вот как? Действительно? Но когда я увидел вас в госпитале, то подумал… я подумал, что вы понимаете. Я увидел это… я увидел это в ваших глазах.
Теперь он заглядывал Моргану в глаза, словно пытался вновь отыскать то, что увидел тогда. Но настоящее откровение находилось гораздо ниже, в чем и убедились его дрожащие пальцы.
– Так-то лучше, – проговорил он неожиданно глухим голосом. – Я знал, что не ошибся.
– О, и я вижу. Господи!
Теперь оба видели все. Сомнений не осталось. Чтобы Морган смог во всем удостовериться еще лучше, молодой человек положил ему руки на плечи и потянул вниз.
Длинный изгиб побережья, купающийся в ясном свете солнца, всегда казался ему воплощением чистоты и невинности. Свои же собственные желания он воспринимал как врага этой чистоты, как захватчика, который прокрался на берег, прикрываясь камуфляжем. Но теперь его желания отражались в теле другого и безо всякого прикрытия. Ему казалось невероятным, что он держит в руках не свою, а чью-то чужую плоть. Ощущение было шокирующим, а примитивный облик того, что он держал в руке и что напоминало какой-то корень, казалось, не имел в себе ничего человеческого. Окружающий мир неожиданно исчез – как абстракция, как сон. И тем не менее Морган понимал, что это самое реальное из всех реальных мгновений его жизни.
Не оставалось сомнений в том, чего хочет от него молодой человек, и он, лишь мгновение поколебавшись, уже не сопротивлялся, в то время как мозг его перебирал слышанные еще в школе слова, обозначавшие то, что он уже держал во рту. Когда ребенком он трогал себя, то называл свою штуку противной игрушкой, а потом молился по ночам, чтобы от нее избавиться. Он подумал о матери, а затем мысленно вернулся в Истборн, в бассейны, где толкался среди упругих тел других мальчиков, которые смеялись над ним и спрашивали друг друга, все ли видели «форстерова петушка, эту противную коричневую фигульку». Насмешки он воспринимал как приговор суда, и приговор этот окрашивал с тех пор его желание – так, что он оказывался как бы вне собственного тела и ничего не мог с собой поделать. Но сейчас все обстояло по-другому. Нет, его тело было с ним – существо, жившее собственной жизнью, и он не смог подавить его волю, особенно в тот момент, когда в него хлынуло потоком нечто, обладавшее острым, странным и несколько медицинским вкусом.