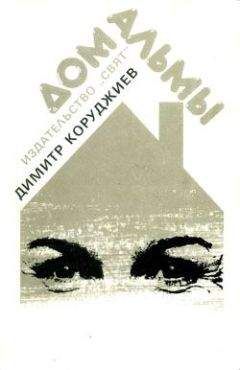Почему бы ему не помолчать? Она попросила соблюдать тишину, разве он не слышал? Ведь нужно поздравить именинницу.
Пятьдесят дней, проведенные в «Брандале» убедили меня в невозможности увидеть тут жест, столь чуждый дому. (Альма ударила Рене… Было ли это для меня реальностью? Нет, только миф, обобщение поведения; возможность, реальная на словах, а не на деле. Рене показалось, что Альма способна ее ударить, таково и мое восприятие в конкретном виде.) Скотт ничего не сказал.
Я прикрыл глаза.
Щели между веками были входом в мир, сотканный из лучей; из искр, плавающих между ними. Однако ж он был символичен, его атомическая одинаковость – кажущейся. Есть лучи, о которых мы ничего не знаем, они освещают нас даже ночью. Я открыл глаза и неожиданно увидел, как один из них пронзил Альму. Даже если она покинет мир, останется ее воля к власти. Эта воля существовала отдельно от тленного, ее нельзя было уничтожить. Я не имел ни малейшего представления, что произойдет дальше, но жилистая мысль о невозможности уничтожить волю к власти заставила меня вздрогнуть. Поддавшись малодушию, я взглянул на Альму и улыбнулся ей. И только тогда стал вникать в смысл слов песни Пиа, (прослушал ее начало), а еще раньше – поздравление именинницы. «Эко! Эко! Эко!» – повторяла Пиа и чередовала это слово с одним именем – Альма. Рене, наклонившись ко мне, объясняла, что припев песни гласит. «Я – эхо Альмы».
Почти оцепенев, я наблюдал, как Пиа перестает играть, как Альма встает и целует ее. (Поцелуй был искренним.) Я наблюдал триумф насилия: Пиа испугалась, я – тоже. Со своего места видел одинокое табло с огромным ирисом, разделенным на части.
Рука Пиа, повесившей его, была то же рукой, которая аккомпанировала песне. Человек заключен между достоинством и страхом. Достоинство называется свободой…
Отрываюсь от своей книги, в душе которой чувства и волнения переплелись столь тесно, что мне уже трудно сохранять контроль над ними. Ее все более самостоятельная жизнь, все более самостоятельные желания связаны с причинами, не всегда понятными мне. Вот одно из ее желаний набухло, стало неудержимым – потребность сказать прямо и открыто: «Достоинство называется свободой!» Но почему? Почему? Как возникла эта потребность? Невозможно вернуться назад и проследить шаг за шагом ее путь!
Чувствую только – в сердце каждого существа хранятся как драгоценность несколько торжественных выражений. Рано или поздно оно должно, произнести их, хоть разок. И если не сделает этого, погибает.
После песни Пиа и поцелуя Альмы воцарилось молчание. И в который раз в этот день мое настроение изменилось, я ощутил небывалый прилив сил. (Возможно, захотелось реабилитировать поцелуй, не знаю; или вновь – так было и с женщиной, которой я играл датские мелодии, – инстинктивно заставил вспомнить своим поступком поведение Питера.) Импульс преодолел боль и одеревенелость, и я довольно ловко наклонился, чтобы поцеловать именинницу, сначала в ушко, а потом и в щеку. В заключение призвал всех присутствующих мужчин последовать моему примеру, а то и перещеголять меня.
Бразилия, Бразилия Зигмунда, самая веселая страна на свете! «Брандал» оживился и впервые нравился мне. Все целовали именинницу, все пели, двигались. Не было ничего более невинного, чем наше торжество, оно напоминало улыбку маленькой англичанки Тани Харрис. Не было ничего более невинного, чем радость именинницы, ее разрумянившееся лицо и благодарные взгляды, которые она бросала на меня…
Через два дня я позвонил дипломату нашего посольства. Хотел лишний раз убедиться, что он изменил дату моего отъезда и забронировал место на субботний самолет. Спросил его, знаком ли он с румынским хирургом.
– Какой он тебе румынский хирург, – сказал он. – Элиас Бореф – болгарский еврей! Мы знакомы с давних пор, и я пойду с тобой, чтобы он уделил тебе побольше внимания. Он тебя примет в больнице или у себя дома?
– Дома.
Обрадовавшись, я бросился в кухню, чтобы поделиться новостью с Альмой. Та не обратила на меня внимания – разговаривала с женой Йорана, которая приехала забрать его.
– Хей! – воскликнула молодая полька.
– Хей!
Новая манера шведской молодежи здороваться была настолько лишена какой бы то ни было официальности, что напоминала небрежное подбрасывание маленького мяча. (Одна из статисток весны, улыбающаяся, унесенная ветром, жена Йорана,видимо, не замечала опасности. Парень покидал нас, находясь в жалком состоянии, он выглядел еще более немощным и бледным, чем раньше. Почему он решил лечить язву именно здесь? Почему Альма приняла его? Ведь это не было «ее» заболеванием. И все же, какая бы вина ни лежала на ней, Йоран, как мне казалось, был больше связан с болью в ее глазах, чем с беззаботным смехом польки.) Случившееся с Йораном – старая женщина поняла это до конца только после ухода молодого шведа – усилило ее желание помочь мне. В день посещения Борефа она была очень напряжена. Возможно, звучит странно, но я не испытывал ничего подобного. Мысль об этом дне начала волновать по-настоящему с того момента, как я узнал, что хирург – болгарский еврей. Утром, стоило открыть глаза, меня охватывала по-детски чистая вера в благополучный исход… Я повторял себе – видишь, невероятное совпадение доказывает, что мучениям приходит конец. Представлял, как вхожу в гостиную Борефа, как рассказываю ему о всех своих невзгодах. Операция наверняка стоит очень дорого, но мы вместе решим… что именно? Видение (гостиная Борефа и мой разговор с ним) озвучивалась через – до смешного равные – инервалы приятной фразой, звучавшей у меня в ушах: «Он сразу же прооперирует меня, и то бесплатно, потом приедет в Болгарию, и я встречу его по-царски!»
Вот так мои последние сто пятьдесят крон, оставшиеся после покупки подарков, были забыты на столе, в ворохе бумаг и писем. Даже в голову не могло прийти, что они понадобятся.
Бореф жил на острове, очертаниями напоминающем пирамиду. Его дом, построенный как замок на маленькой выпуклости земной поверхности, совпадал с моими представлениями о нем. Он излучал добродушие старинных, богато иллюстрированных книг для детей, и наводил на мысль о зарытом кладе, который сейчас будет найден.
Дипломат ждал нас. Мы поставили машину за его «вольво» и вышли: Альма, Пиа, потихоньку выбрался и я. Крутая садовая дорожка медленно ползла вверх, с нею – и мы, а улыбка, играющая на губах Пиа подсказывала, что наши состояния переплетаются, что мы превратились в одно существо при виде этого дома. Однако как только мы шагнули на площадку, совершенно ровную, перед входной дверью, где встретила нас мать Борефа, я услышал крайне мрачное арпеджио, долетевшее из открытого окна на втором этаже; там, без сомнений, находилось фортепьяно. Одно арпеджио, ничего более. Оно прозвучало прямо-таки зловеще – кто-то сыграл аккорд из пяти нисходящих тонов, вот и все.
К тому же совершенно неожиданно, как в кошмарном сне, я вновь открыл арпеджио (его конструкцию и звучание) на лице у матери: центр лба, точка между бровями, кончик носа, середина губ, ямка на подбородке… Все эти точки отзвенели в сознании, я воспринял их слухом, а не зрением. Конечно, я почти сразу пришел в себя, подумал, что странное ощущение связано с неизбежным в таких случаях волнением. И все же меня неприятно удивила холодность пожилой женщины.
– Элиас – в своем кабинете, – сказал она. – Подождите в вестибюле, у него – пациент.
Мы вошли, длинный коридор привел нас в вестибюль. Трое моих спутников в полном изнеможении опустились на стулья. Человек очень уязвим. Женщина отнеслась к нашему дипломату так, как будто он не был дипломатом, к Альме -так, как будто она не была Альмой. Пиа -та сразу поняла, что все наши надежды на чудо тщетны. Что же касается меня, то встретили меня равнодушно, хотя я – болгарин. И если общее настроение группы действительно превращало ее, хоть и временно, в единое существо, то это существо, прибывшее с радостью, уже распадалось. Безразличие дипломата («в конце концов делаю, что могу»), смущение Альмы и Пиа и мое сильное беспокойство отделяли нас друг от друга…
Пациент вышел, и Бореф встал на пороге своего кабинета. Слегка удивившись, он в первую очередь поздоровался со своим соотечественником, а потом с нами, жестом пригласив меня войти.
– Господин из Софии, – поспешил сказать дипломат, – преподаватель университета.
Он говорил на болгарском. Бореф кивнул и с недоумением выслушал страстную тираду Альмы, которая встала и хотела войти со мной. Я слышал, как он ответил ей не совсем любезным тоном, затем дверь, обитая кожей, закрылась.
– Ложитесь, – он указал на медицинскую кушетку.
Я улегся, хотя и с трудом. Его служебный тон и непроницаемая сдержанность сковывали мои движения. (Куда подевались просторная, старомодно обставленная гостиная, которую я представлял утром, кофе, задушевный разговор, щедрые человеческие обещания хирурга? Неужели ничего не дрогнуло в нем, когда он увидел перед собой болгарина?)