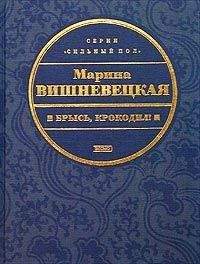Утром он побежал на чердак и увидел амбарный замок. Влада дома не оказалось. Жизнь в коллекторе начиналась, наверное, позже: он звонил ей в коллектор из всех автоматов, пока шел в институт, заодно озираясь – слежки не было,– чтобы сказать: «Я люблю тебя, слышишь?» – и добавить, что блох на хвосте у собаки пока нет, ты меня поняла? Да и рано, конечно, еще было для слежки. День, а то и все два, чтоб успеть обо всем сговориться, у них были в запасе. После ночи, в которой он, будто бумажный кораблик, притянувшийся к водосточной решетке, тяжелел, расползался, утягивался во тьму (ключевые слова – водосточной! решетке!), было даже приятно упруго бежать и бежать с ясной целью… А вбежав, он увидел Большого, сидящего не на галерке, а рядом с Оксаной под портретом Лавуазье – дело было в их главной аудитории амфитеатром, где места были издавна поделены!– Пашка ей перекатывал, очевидно, лабораторку, а она, залоснившись от счастья, перебрасывала свою тощую длинную косу с одного плеча на другое, нагловато поглядывая по сторонам. Ни Малого, ни Влада в аудитории не оказалось. Он прождал их весь день. И весь день делал знаки Большому, который, как будто английской булавкой пришпиленный за Океании подол, семенил за ней следом повсюду, даже по парку, из корпуса в корпус. Игорь смог наконец заарканить его в туалете, примостившимся к писсуару, и влепил внятным шепотом в ухо, как все было на самом деле, мать твою растуда: они сели без четверти десять на трамвай семнадцатой марки, чтоб доехать от Черноглазовской до кинотеатра имени Жданова, собираясь на новую кинокомедию «Бриллиантовая рука», на последний сеанс, когда этот мудак залез к Нине в карман и стащил кошелек! А Большой, ковыряясь в ширинке, прочитал ему по складам похабень, процарапанную на побелке, и, уже застегнувшись, сказал: «Я вчера в это время был в гостях у Малого»,– и пошел поскорее обратно к Оксане, даже рук не помыв, а уж это он делать любил и умел, точно дед-венеролог, упруго и долго,– чистоплюй, одиночка, предатель!
Игорь бросился к автомату, висевшему в вестибюле, чтобы Нину поставить об этом в известность, но сначала сказать: «Я люблю тебе еще больше, ты слышишь? Больше некуда! Больше я уже не смогу!» А она оказалась в подвале, на складе. И слепящее солнце, слепящее отовсюду: из луж, из начищенных гуталином ботинок, из окон, из пронзительно-нежной голубизны – он вдруг понял, что краски весной акварельного цвета, потому что разбавлены тающим снегом, капелью, вообще половодьем… маслянистая зелень и темная синь придут вместе с засухой лета, а пока даже небо лучится нежнее подснежника,– и слепящее солнце, как теплые Нинины губы, повсюду находит тебя, отпускает на миг в тень огромного серого дома и опять на углу поджидает и льнет.
Он еще позвонил ей из дома – унылая тетя сказала: «У ней голова разболелась, она отпросилась до завтра» – и заснул в чем стоял, в чем свалился на кресло-кровать, а очнулся в чернильных потемках от звонка, очевидно, будильника, очевидно проспав до утра, но звонок повторился – звонок в их звонок, и он бросился в коридор, и открыл, и увидел Малого. Пашка хмуро спросил: «Предки дома?» И из кухни вдруг вышла мама, на весу держа грязные от картофеля руки, и сказала с обидой: «Здравствуй, Павлик. А я думала, только Игорь у нас забывает здороваться!» – и ушла, и на кухне красиво запела: «Опустела без тебя земля, как мне несколько минут прожить?!» И душа заныла, как будто рука, прищемленная дверью, и они сели в лифт и доехали до седьмого, последнего этажа, чтобы там, на ступеньках, без свидетелей перекурить. Но курить было нечего, и Малой – чтоб слова не давили, а просто мелькали – стал жечь спичку за спичкой и выстреливать в потолок, перед этим как следует послюнявив ей кончик.
Оказалось, что Нина и Влад только что заходили к Малому, а что Мишке они обо всем разболтали еще на рассвете, заявившись к нему на дежурство прямехонько с чердака, но сказали, конечно, что парень с кастетом у Нины из сумки стащил кошелек.
Игорь вспыхнул: «Да сколько же раз говорить! Не из сумки, а из кармана! Это важно! Свидетельские показания должны полностью совпадать!» Но Малой заявил, что теперь это роли уже не играет, Мишка их успокоил: ответственности за этот случай ни моральной, ни тем более уголовной они не несут – пять обугленных спичек торчали уже в потолке, и у каждой был свой ореол, очень черный и рваный, будто солнечное затмение, и Малой, как художник, примолк, очевидно любуясь или просто примериваясь для следующего броска, и сказал уже вовсе скороговоркой, что он жив и для жизни опасности нет, его звать Александр Тарадай, ему двадцать один, он в четвертой больнице, что-то там у него с позвонками на уровне поясницы, и пока что, до операции, не понятно, он будет ходить или нет,– это Мишка все выяснил по своим каким-то каналам, Нина очень его попросила. И добавил, сев рядышком на ступеньку: «В двадцать лет, а как дед мой: ни встать, ни пописать! Ужас, да?– и опять чиркнул спичкой и засунул горящую в рот, а потом распахнул его и с шипением выдохнул сизый дымок: – Вот бы завтра так чехов одурманить каким-нибудь газом!– И опять подскочил, как с гвоздя, и заерзал руками по разным карманам.– Влад сказал, твой папаша за чехов болеет, набрехал?» – «Почему? Это спорт. За кого хочет, за того и болеет!» – «Против наших?! Он хочет, чтоб наши продули?! Не отдам! Тебе Нина записку прислала, а я не отдам!» – и потряс над собой чуть примятым листком.
Игорь бросился отнимать, а Малой, хоть и в шутку, а не отпускал, и пришлось его приподнять за грудки – он на вес оказался килограмма на три тяжелее пальто – и прижать к белой стенке и в конце концов вырвать записку… Но не всю, клок остался в его кулачишке! И от этого рассвирепев, Игорь крикнул: «Скотина, убью!» – и швырнул его на пол, и ошметок отнял, и сложил его аккуратно в кармане. А Малой поднялся, от обиды и, может быть, боли сопя, вызвал лифт и сказал, отвернувшись к решетчатой двери: «На словах было велено передать: а) о самороспуске организации, б) о запрете на телефонные переговоры и переписку об организации, в), о молчании о происшедшем по гроб жизни…– и уже опуская железную ручку: – И мой личный совет: если страшно, то сикай почаще! Чтоб моча не била в головку!» – «Это, Павличек, не ко мне! Это ты вчера наложил!– Игорь бросился следом, еще толком не зная зачем.– И не надо искать виноватых! Не надо! Он болеет за чехов, потому что для них это больше, чем спорт. Он считает, что так они борются за свое человеческое достоинство!» – «Если наш человек не болеет за наших, значит, он… пусть немного, а не наш человек!» – «Не советский?! А кто он, по-твоему, чехословацкий?!» – «Я не знаю, но если они докопаются до…– и Малой покосился на диспетчерский микрофон и одними губами сказал: – Ор-га-ни-за-ци-и… мне Большой разложил все по пунктам, что нам светит!» – «И при чем здесь хоккей?!» – «А при том! Раз теперь каждый сам за себя!» – «Я не понял!»
Лифт мягко причалил, а они продолжали упрямо смотреть друг на друга, правда, Игорь, нащупав в кармане комочек записки, делал это уже с превосходством счастливого человека над замызганным коротышкой: «Повторяю для иностранных гостей: I don’t understand!» – пока дверь наконец не открыла как раз их соседка, вплоть до ворота макинтоша, как всегда, запорошенная белой пудрой, и визгливо спросила: «Обратно на гульки? Паруетесь вже?– и своим грязным ботиком наступила ему на ботинок.– Шобы ночью мне было, как в индийской гробнице! А паруйся хоть с Лоллобриджидой Бардо!» И Малой жизнерадостно фыркнул, и почти без обиды протянул ему на крыльце пятерню: «Ладно! Будь!» – и, как белка, легко и волнисто запрыгал по лужам.
Игорь вынул два смятых ошметка и сложил их и задохнулся, она выдумала ему имя: «Игрек! Извини меня за все! (каждый звук ее имени изумлял, изводил, но ее, ее имени… вдруг накатывал десятибалльной волной: ни-ни-ни, и куда-то утаскивал, и душил до захлеба, и вдруг звонко журчал: на-на-на, вынося, поднимая, выбрасывая на свет и на берег! имянины… души – вот что он ей напишет сейчас, дочитав! Игрек – значит, он ей не известен еще до конца, и загадочен, и интересен!) Извини меня за все! Я не помнила себя от горя, а ничего больше и небыло! Приходи 2-го апр. к моск. поезду, вагон №10. Лихом не поминай! N.»
Поначалу кольнуло лишь слитное «небыло». Получалось, она очень куда-то спешила, получалось, что «Игрек» – не описка, наверно… но что же тогда?! Остальное казалось дурацкой шарадой, нет, скорее всего, шифрограммой – ну конечно, записка была ведь не запечатана! По закону акростиха он попробовал вычленить первые буквы и сложить – получилась абракадабра. То же самое сделал с последними буквами – снова чушь! С козырька над подъездом упала капля и размыла «вагон №10». Ключ был найден, он – в числах! Взяв вторую, десятую, снова вторую, он получил: ГМН (Гименей?), ПМТОЬГИ…
И тогда он прочел все слова, все как есть, и заметил в них толику смысла. Смысл был в том, что ей стыдно и страшно смотреть им в глаза до второго апреля. И вернувшись за курткой – мама крикнула: «Снова на ночь? Ты хоть что-нибудь можешь мне объяснить?!» – а он хлопнул на это дверью так, что даже снаружи посыпалась штукатурка, и помчался сначала, наверное, к Владу, а потом уже к Нине, чтобы сказать ей любимую мамину фразу: надо судить человека не по поступку, а по намерению; ты желала этому типу добра, ты готова была рисковать, лезть на крышу ради этого урки с кастетом, ты такая одна!.. Горло тупо саднило, а он все равно рвал в куски мокрый воздух и заглатывал их вместе с болью.