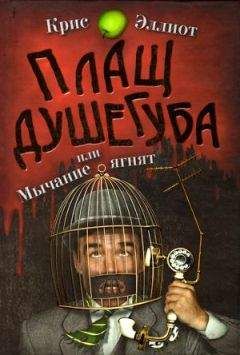Например, на бегу я заметил вигвамы, которыми пестрел окружающий ландшафт. Ничего удивительного: эта территория хоть и разрасталась, чтобы затем превратиться в фешенебельный Верхний Вестсайд, но в 1882-м ее все еще населяли немногочисленные индейцы дакота. (Отсюда и название дома, в котором я жил. Готов поспорить, вы об этом и не догадывались, правда?)
Индейцы влачили жалкое существование, мастеря сувениры для туристов: цилиндры из кукурузных облаток с надписью «Я просто обожаю Н-Й», табакерки из кукурузных же кочерыжек с надписью «Я люблю Н-Й», статуэтки Натана Бедфорда Форреста, сделанные из высушенного кукурузного теста, и, разумеется, кондомы из свиного пузыря, украшенные тисненым изображением неизменной зубастой улыбки мэра, под которой размещался знаменитый трюизм Тедди: «В этой стране нет места неамериканским американцам».
– Да чтоб им тут всем повылазило! – запричитал я, утопив в навозной жиже ботинок – замечательный ботинок с особо толстым резиновым каблуком. Я ужасно расстроился, однако нельзя было терять ни минуты.
«Дакоту» спроектировал Генри Джей Харденберг. Он же спроектировал «Дакоту», «Плаза», Университетский клуб, а еще – принципиально новый ресторан «Цыпленок жареный Попая», который должен был появиться на Таймс-сквер. Назвать этот десятиэтажный шедевр великолепным было все равно что назвать римский акведук просто «водопроводом». В центральный двор вела гигантская арка, которая была и остается украшением этого здания, выполненного в готическом стиле. Харденберг украсил свое детище невероятным количеством ниш, альковов, впадинок, углублений, закоулков и прочих укромных уголков. Несметные эркеры гостеприимно позволяли обозревать лучшие виды Центрального парка, и в 1882 году, если выйти на один из верхних балконов и посмотреть на север, можно было увидеть впавшую в величественный столбняк дикую скотину, которая свободно паслась на лужайках, что станут впоследствии Гринвичем, штат Коннектикут.
Дождь немного приутих, когда я свернул на Семьдесят вторую улицу и воровато нырнул в какую-то впадинку (или нишу, уж не помню что). Осторожно выглянув оттуда, я увидел целый легион небольших конных экипажей, из которых выходили нарядные дамы и господа. Стоявшие на обочине лакеи в ливреях проверяли пригласительные билеты у прибывающих гостей. Я решил пробраться в «Дакоту», смешавшись с толпой. Поправив цилиндр, я поплотнее запахнул плащ и, пытаясь не хромать (ботинок-то я потерял), вошел в парадную.
– Постойте-ка, приятель. Чем мы можем вам помочь? – Два здоровенных швейцара преградили мне путь.
– Да я просто иду к себе, господа, – сблефовал я.
– Ив какую же квартиру, сэр?
– Восемь «с», если это вас так интересует. Вы что, новенькие?
– Ах, восемь «с»! Стало быть, вы направляетесь на званый обед к мадам Огюст Бельмонт, не так ли?
– А? Ну, разумеется. Званый обед у мадам Огюст Бельмонт, восемь «с». Куда же еще? Вы что, туго соображаете?
– Прошу прощения, сэр. Могу я посмотреть ваше приглашение?
– Приглашение?
– Да, пригласительный билет.
– Видите ли, при мне его нет. Он у моей жены. Возможно, вы о ней слышали, некая… э-э… госпожа Рандолф… Пэ… Мокро… долбер. Третья… Лимитед. А она уже поднялась наверх. Поэтому, если вы позволите…
– Стало быть, вы – господин Мокродолбер?
– Да, лорд Мокродолбер, так будет точнее.
Швейцары переглянулись, а затем ехидно уставились на мою необутую конечность.
– Отлично, лорд Мокродолбер, а теперь разворачивайтесь и валите откуда пришли.
Они подхватили меня под руки и вытряхнули из парадной.
– Подождите, вы не поняли. Я действительно тут живу. Только не сейчас… Я буду здесь жить в 2005 году… Я просто зашел взглянуть, покрасили уже мою гостиную или еще нет.
Стражи от души расхохотались, и я понуро захромал прочь по Семьдесят второй.
«Не пустить меня в собственный дом! Какая подлость!»
Эта квартира давным-давно принадлежала нашей семье, однако в своем генеалогическом древе я не мог припомнить никакой мадам Бельмонт.
Возле черного хода мальчишки в белых фартуках выгружали из повозки ящики с шампанским и уносили их к грузовому лифту. Я услышал полицейские свистки, громыхание «воронка» по брусчатке и понял, что выбора нет. Собравшись с духом, я поднапрягся, схватил один из ящиков и решительно потащил в подвал.
В грузовом лифте я поставил свой ящик поверх других и, пока никто не видел, сам затаился в глубине кабины. Дверь мягко закрылась, и я почувствовал, как лифт пошел вверх.
– Поживее, Мэри, – послышался мужской голос. – Они требуют еще «Блан-де-блан».
Дверь кабины открылась, и приземистая пожилая тетка в платье горничной принялась вытаскивать ящики.
– Да знаю, знаю. Не суетись, – сказала она. – Они этой шипучкой весь вечер накачиваются, могут и перерывчик сделать.
Дерзкая тетка с пронзительным голосом выглядела раза в два старше меня. Она была не слишком привлекательна – ее даже можно было бы назвать отталкивающей, вроде некоторых персонажей Феллини, и все же в ней было что-то почти… человеческое. Во всяком случае, похоже, воспитывали ее все-таки люди. Вытащив последний ящик, тетка увидела меня, съежившегося в углу кабины.
– Эге, а это еще кто? Какого хрена тебе тут надо?
– Сударыня, я актер, – прошептал я. – Я тут жил… то есть живу… то есть буду жить… Послушайте, я крупно влип. Полиция считает, что я кое-что сделал, но я в этом – клянусь! – не виновен. Мне нужно спрятаться. Хоть ненадолго, чтобы я мог обдумать, как мне быть. Пожалуйста, помогите мне.
Тетка оценивающе посмотрела на меня. Уперши руки в боки, она разглядывала меня с ног до головы, взвешивая все «за» и «против» укрывательства беглеца. Ей самой в этом не было никакого проку, во всяком случае, так мне тогда казалось. Но я чувствовал, что она понимает обуявшую меня панику и мою беспомощность. А может, она просто была старой, сексуально озабоченной горничной образца 1882 года.
Много лет спустя, сочиняя мемуары в своей одиночной палате на острове Норт Бразер, что посреди Ист-Ривер, она писала о нашей встрече так:
«Его лицо обладало глупым выражением дохлой рыбы фугу. Голова его казалась странно маленькой для поросячьего туловища, консистенцией напоминавшего сырое тесто или не слишком густую овсянку, а его слова, если брать их во всей совокупности, представляли собой настоящий кладезь явной чепухи.
И все же было в этом никчемном придурке нечто такое, что заставляло бродить старые соки, если вы понимаете, что я имею в виду, и мне ничего не хотелось иного, кроме как отпарить его не сходя с места».
– Ладно, красавчик, расслабься, – сказала тетка. – Я тебя не сдам. Надень-ка вот это и помоги мне с той хреновиной. – Она швырнула мне белый фартук, который я повязал поверх плаща.
Я начал вытаскивать шампанское.
– Мэри, что это еще за оборванец, черт побери? – поинтересовалась вторая служанка.
– Закрой воронку, Клодин, и не лезь не в свое дело. Этот парнишка со мной, усекла?
Клодин отступила, а старая горничная придвинулась ко мне поближе.
– Они больше тебя не побеспокоят, во всяком случае, пока они знают, что ты – мой!
Она ухмыльнулась желто-гнилозубой улыбкой, и я едва не окочурился от ее смрадного дыхания.
Я оглядел свою кухню. Это действительно была моя кухня! Она выглядела почти точно так же, как в мое время, за исключением шкафчиков: они не были выкрашены в мой счастливый лиловый цвет, а представляли собой первоначальные уродливые полированные ореховые панели с инкрустацией из красного дерева. Я взглянул на телефон – вместо моей грудастой Мэй Уэст я увидел вычурную Сару Бернар, а трубкой служила ее фальшивая деревянная нога. (Впрочем, о вкусах не спорят.)
Повара, дворецкие и горничные сновали взад-вперед; то и дело слышны были распоряжения:
– Еще икры!
– Еще тушеной лососины!
– Еще корндогов!
– Мадам Резерфорд требует уборщика, чтобы он прибрал перед ней на столе, прежде чем подадут следующее блюдо.
– Кто-нибудь знает, где найти герра Хеймлиха?[60] Коммодор Уэллс подавился беличьим когтем.
– Эй, красавчик, отнеси это к смешивателю в винную кладовую, – велела старая горгона, хлопая непомерными ресницами, и протянула мне бутылку шампанского.
– Да, мэм.
– Мэм? Мамашу мою так называй, а меня звать Мэри.
Она подмигнула и шлепнула меня по заднице; должен признать, мне слегка поплохело – я почувствовал себя каким-то дешевым «мальчиком по вызову» (впрочем, это не самое худшее ощущение). «Если самой Мэри, поди, за восемьдесят, – думал я по пути в кладовую, – сколько же стукнуло ее мамаше?»
Смешиватель озадаченно взял у меня бутылку и отнес в мою столовую. Дверь закрылась неплотно, и мне удалось заглянуть в комнату.