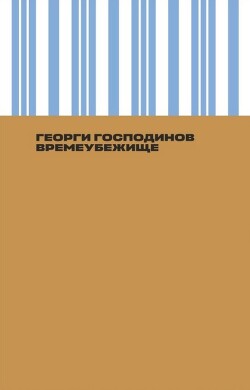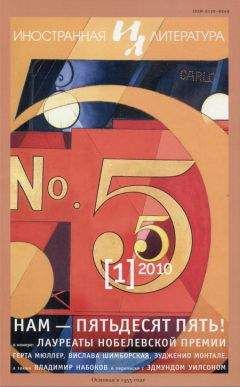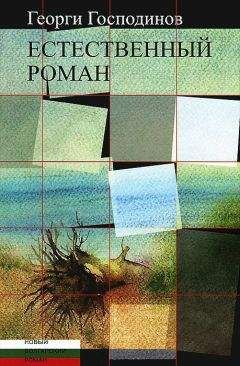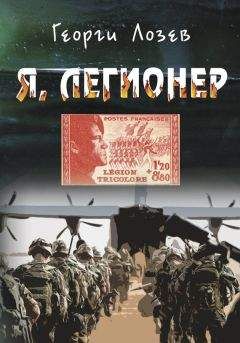Не знаю почему, но этот поросенок особенно впечатлил как меня, так и шведских журналистов. «Швеция — не марципановый поросенок во время войны!» — скандировали противники этого движения. Конечно, никто не спорил насчет достатка и благоденствия, но куда девать чувство вины? Разве может человек наслаждаться сытостью и счастьем посреди преисподней. В конце концов, по данным социологического исследования, сороковые получили не слишком высокий процент голосов, что автоматически отсылало их на пятое или шестое место, практически лишая шансов на успех. Но тот факт, что неожиданно появился призрак военных лет как возможность, уже сам по себе был достаточно тревожным.
По мнению аналитиков, высокий процент сторонников возвращения в пятидесятые, которых, согласно всем исследованиям, было большинство, объяснялся именно подъемом в предыдущее десятилетие и неловкостью, вызванной желанием выбрать военный период. Но пятидесятые в любом случае были сильным десятилетием. СМИ вспомнили, как на фоне разрушенной, обескровленной Европы Швеция после войны была мощной страной с нетронутыми ресурсами и производством. Жизнь становилась все более уютной. «У нас была полуавтоматическая стиральная машина, появился первый телевизор и во-от такой холодильник», — говорила одна женщина в телепередаче, разводя руки в стороны как можно шире. Ей было около семидесяти, выглядела она ухоженной. Камера переместилась на мужчину рядом с ней — поджарого высокого краснолицего старика, который тут же принялся рассказывать о «вольво-амазон», первой модели выпуска 1957 года, черной со светло-серой крышей — изящная работа… Он продемонстрировал прямо в камеру черно-белую фотографию, на которой был запечатлен со своей спутницей — оба улыбались и выглядели счастливыми. Я засмотрелся на автомобиль — он напоминал отцовскую «Варшаву», которая являлась точной копией «победы». Крепкие, немного неуклюжие машины пятидесятых, устойчивые, словно танки, и почти с таким же расходом бензина.
Другим бесспорным козырем в поддержку пятидесятых была, разумеется, «ИКЕА». Да, именно тогда издали первый каталог и открыли первый магазин. Вероятно, важнейшим достижением стала идея выкручивать ножки стола из крышки, чтобы уместить в багажнике и дома снова собрать. Вот они, пятидесятые — практичные, здоровые, дешевые, немножко суровые и простые.
Серьезную конкуренцию им составили семидесятые. С одной стороны — пятидесятые, с другой — семидесятые, несмотря на экономический кризис. В семидесятых изначально было что-то глубоко скандинавское. В этом и последующем десятилетиях кроме железного занавеса, мир все так же раздваивался, когда дело касалось вопроса, который вставал перед каждым мужчиной: блондинка или брюнетка (иногда рыжая) из ABBA. Их называли именно так, а не Агнетой или Ани-Фрид (Фридой). Мне тогда было десять, и меня никто не спрашивал, но я тайно, как и большинство мужчин, отдавал предпочтение блондинке. Хотя также знал, что это банально и правильнее будет выбрать брюнетку. По крайней мере, на словах. Но в любом случае, ABBA была северной, светлой, шведской, танцующей, блестящей и белой.
Именно такие вещи, как ABBA и кресло «Поэнг», изобретение «ИКЕИ» того же периода, в корне меняют времена, а вовсе не валовой внутренний продукт или экспорт древесины или стали. В конце концов, несмотря на кризис и смены правительства, несмотря на рост цен нефти и новый кризис, несмотря на все это, танцующая королева поздних семидесятых обогнала «вольво» 1957 года вместе с огромным холодильником и полуавтоматической стиральной машинкой. Романтика заключалась уже не в холодильнике, людям хотелось танцевать, и новая сентиментальность разливалась над северными водами. Так что после референдума Швеция проснулась в 1977 году.
Никого не удивил тот факт, что и ДАНИЯ тоже выбрала семидесятые, хотя до самого конца на повестке дня стояли и девяностые. Наверно, семидесятые и правда по духу были скандинавскими. Они напоминали усыпанные похожими на сахар блестками новогодние открытки, которые мы облизывали, пока никто не видел.
«В семидесятые мы все стали наслаждаться жизнью», — растолковала мне одна приятельница-датчанка. Помнится, я ее спросил: «А что ты скажешь о шестидесятых? Разве не тогда появились все удовольствия?» Моя приятельница немного помолчала, а потом сказала: «Ты прав, но в то время мы еще не знали, что с ними делать. Я забеременела, не желая этого, родила, отец ребенка исчез, я возненавидела ребенка. Потом оставила его со своими родителями и уехала в Москву. Новую жизнь выдержала всего год. Всякие Евтушенко взывали на стадионах, какие-то Ахмадулины, шестидесятники… Все нормальные поэты были в андерграунде, вечно пьяные, их не издавали, кто-то сидел в тюрьме… Стоило мне о них узнать, меня арестовали и вернули в Данию. Вот так и закончились шестидесятые — словно молодежная тусовка: ты лишь напился, почувствовал себя хорошо, но вдруг приперлась милиция. И осталось только похмелье. В семидесятых я уже знала, что делать с удовольствиями, мы все уже знали и жили хорошо. Так что будь уверен — все проголосуют за них».
Ну, не совсем все, но кое в чем она была права.
6
С вечера зарядил дождь. От его шума я и проснулся утром. Лежал с закрытыми глазами и слушал, как барабанят капли по крыше. Потолка не было, только крыша и старые потолочные сваи. Лежал и слушал. У тела с дождем давнишний непрекращающийся, но уже забытый мной разговор. Существует простая жизнь, жизнь в одиночестве, от которой я отвык. Поесть хлеба за обычным деревянным столом, сгрести в ладонь крошки и бросить их воробьям. Медленно очистить яблоко ножом и вдруг понять, что эти движения в точности повторяют движения твоего отца, которые он унаследовал от твоего деда. Место и время уже другие, да и рука не та, но движения, жесты совпадают. Раскрыть очередной номер местной газеты Zuger Woche, чтобы узнать прогноз погоды, одновременно думая о том, что на грядке проклюнулись ростки лука, а в саду расцвела черешня. Беспокоиться о мире, которому ты не принадлежишь…
В пять утра пробили большие францисканские часы за стеной. Их бой ничем не отличался от колокольного звона. Я поднялся с постели, оделся и сел у окна. Светало. Раскрыл томик стихов Тумаса Транстрёмера и стал читать. Читал медленно, с наслаждением. Потом закрыл книгу и подумал, что, если государства вернутся в семидесятые или восьмидесятые, что же будет с еще не написанными стихами и романами, издать которые еще предстоит? Потом попытался вспомнить, что такого исключительного я прочел за последние несколько лет, и решил, что, скорее всего, жалеть тут не о чем.
7
А что будет с референдумом в странах Восточной Европы — той ее части, которая всегда употреблялась с определением «бывшая»? Разумеется, все уже давно разбежались, словно бывшие супруги, которым приходилось жить вместе, пока росли дети, но потом их пути разошлись, и даже если они не испытывали ненависти друг и другу, то и любопытства не проявляли. Каждому хотелось прильнуть к (западной) любовнице, о которой он всегда мечтал, пока обретался в общей социалистической спальне.
Последней моей надеждой на возвращение в новый 1968 год после французского провала был именно этот (бывший) лагерь. Разумеется, ЧЕХИЯ являлась самым ожидаемым местом для государства 1968-го. Тебе двадцать лет, ты свободен и творишь историю на улицах Парижа или Праги — что может быть лучше… После голосования во Франции, где выбрали восьмидесятые, эта мечта частично угасла, Париж оказался безвозвратно потерян, осталась только Прага.
Однако, как и во Франции, то, что казалось привлекательным извне, внутри виделось совсем по-другому. Легенда о 1968-м звучала захватывающе, так как время немного сгладило все острые края. «Пражская весна» манила к себе, как райский сад, но без вторжения разгневанного Бога. Но вторжение тем не менее было фактом, а глас Божий звучал как русский танк и грозил отомстить, совсем как «братское войско», настоящий «бог из машины»… бронированной.