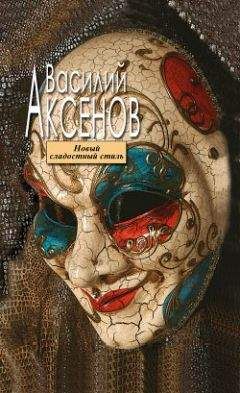– Это вы, Алекс? – спросил он с британским придыханием.
– К вашим услугам, сэр, – тут же деловито ответил наш герой. Он внимательно, то есть профессионально, вглядывался. Что-то знакомое было в этом долговязом, однако среди прежних любителей «экстази» он вроде бы не замечался.
– Анкоридж, Аляска, – долговязый произнес пароль этой недели.
– Не так холодно, как ожидалось, – ответил Александр, размыкая замок.
Долговязый туманно улыбнулся и вытащил из пиджака три новеньких сотни. У Алекса в кармане была наготове соответствующая доза порошка. Дело было скреплено рукопожатием, и вот тут, в момент потряхивания длинной ладони, произошло нечто невероятное. Глаза долговязого сластолюбца вспыхнули необычным для такого рода посетителей жаром: чаще всего этот народ слишком вялым приползает за следующей порцией.
«Нет! – вскричал он. – Не верю своим глазам!» После чего как раз и зафиксировался с открытым ртом на протяжении нашей «минутки».
Тут мы, киногруппа этого романа, стали быстро отвозить нашу камеру назад, как бы даже и не заботясь о стремительно уменьшающихся фигурках момента: полощущиеся на ветру шелковые штаны, щелкающая сверхдлинная челка, клочками пролетающий трубочный дым из-за челюстной твердыни Лероя Уилки, запарусившая куртка Александра Яковлевича, ну вот и все, что может на секунду задержать внимание.
Цель этого стремительного бегства на первый взгляд выглядит довольно просто: надо же все-таки показать, как наш благородный Корбах скатился так низко, что стал щипачом наркобизнеса, если нам позволят таким образом перевести емкое американское выражение «драг-пушер». Виной тому была любовь, милостивые государи, говорим мы и, указав на это не очень-то существенное для суда, но весьма смягчающее для читателя обстоятельство, укатываемся к концу предыдущей главы, то есть ровно на три года назад.
«Ах, Алекс, – шептала Нора, когда он снова и снова подступал к ней в тесной комнатенке мэрилендского постоялого двора, где сквозь открытое окно густо входил лунный свет, отраженный белым подрагивающим крупом Гретчен. – Да как же вы так можете, снова, и снова, и снова без передышки?» – «Но это же вы виноваты, Нора, – притворно оправдывался он. – Ведь это же вы все меня целуете, касаетесь грудью, берете руками. Ведь это же вы не даете мне передышки, моя любовь». – «Я не ошиблась, вы фавн, – бормотала она, снова и снова поднимая ноги и захлестывая у него на спине свои нежные руки. – Как только я вас увидела среди лошадей, я сразу подумала: это фавн, он охотится, он жаждет превратить меня в нимфу-козу. Ну признавайтесь, сладчайший монстр, сколько женщин вы так перемучили?» – «Никого никогда я так, как вас, не мучил, – слегка подвирал он. – Ни в кого я так мгновенно и охуительно не влюблялся, как в вас. Большая часть жизни прошла в пустяках, – продолжал он и тут не врал. – Не знаю, с чем это можно сравнить, если только не со встречей Данта и Беатриче возле Понто Веккио».
Она с хрипотцой смеялась: «Вот уж сравнение! Да ведь они же не трахались никогда, а мы сразу…» И она снова брала его рукой и приближала к нему свой рот. «Так ли это называется, как вы сказали, любимая, – шептал он. – Может быть, этот акт как-то иначе называется в нашем случае?»
Осенний антициклон за окном довел температуру до тридцати двух градусов по Фаренгейту, то есть по-нашему до нуля. Быть может, все в мире в ту ночь дошло до нуля, предоставив им чистое поле деятельности. Лишь старый дом иногда поскрипывал то ли от их трудов, то ли от своего возраста, да Гретчен иной раз жалобно всхрапывала то ли от ревности, то ли из опасения за свою хозяйку. Лишь рассвет их угомонил своей графикой, если только это нельзя было назвать тиснением по меди, ибо Атлантика встала у их ложа с массой предсолнечного свечения.
Пора, однако, было возвращаться к реальности. Она предложила ему остаться у нее в Вашингтоне. Увы, вздохнул он, мне нужно возвращаться в Архангельск. Она хохотнула: Лос Арчанжелес! Отчего же такая спешка, мой дорогой? Он рад был бы начистоту сказать, что Тед и так был слишком добр, позволив ему не выйти на пересменку, и что, случись такое еще раз, он пробкой вылетит из бригады эфиопского комсомола. Вместо этого глухо пробормотал, что отъезд заложен в драматургии всей этой штуки. Я могла бы поехать с вами, воскликнула она. Он успел запечатать «предательский цирк мимики», то есть лицо: не хватало еще ей явиться в отель «Кадиллак»! Но не могу, продолжила она, потому что завтра как раз начинаю этот факинг семинар для первокурсников, навязанный подкомитетом по корневому обучению в этом вшивом «Пинкертоне». Ага, значит, красавица преподает в престижном Юниверсити Пинкертон! Я сам к вам прилечу, Нора, через неделю. Это правда, Алекс, клянетесь? Больше недели, Нора, мы без вас не выдержим. Почему вы употребляете плюрал? Потому что говорю не только от себя, но и от всех своих органов. Мы просто не выдержим без вашей компании. Ну вот, я так и знала, опять начинается. Кажется, мне грозит спермотоксикоз по вашей вине, мой любимый паяц!
Еще пущая реальность началась по возвращении в Эл-Эй. На какие шиши я буду летать в Вашингтон? Может быть, и наберу на один раунд-трип из остатков той тыщи, но на этом придется и закруглиться с любовными приключениями, не признаваться же ей, профессорше, в том, что живу на жалкие чаевые. Дальнейший хаос в его практических соображениях мы можем передать, только безобразно перепутав все знаки препинания.
Я бомж из очереди в никуда! Советский жизненный опыт подсказывает не ахти какую оригинальную – расскажу ей все? она будет меня жалеть, давать деньги фавну из своего жало– идею продать что-нибудь – ванья; вот вам и Понто Веккио! продавали ведь там что-то в таких ситуациях: радио там или что-то? помнишь тахту забодал двухспальную? в Америке нечего мне продавать кроме собственного… ну понятно: «фиат», что ли, продать – кто возьмет; так что прощай; эту ржавчину; вашингтонская Беатриче с повадками опытной гетеры – может, в Швецию позвонить чтобы дали аванс под «Письма из ссылки» – где она всему этому научилась? кто меня там помнит в Швеции? а ведь выглядит издали как первокурсница; нужно еще объяснять шведам кто таков, почему; от такой ты и балдеешь от гетеристой; ты в ссылке? в чем тут хохма? признайся, тебе всегда только гетеристые бабы и нравились! может быть, у Бутлерова одолжить, у Двойры, у Стенли, наконец, что стоит – она там сидит на своих подкомитетах с невинным видом ученого археолога – она не археолог – она моя, только моя гетера и Беатриче – смешно у Стенли просить взаймы – она там сидит: выпуклый англосаксонский лоб – когда он может мне не моргнув дать миллионы на фильм – вместилище академических знаний – если я попрошу – но я не попрошу! от одного лишь слова «вместилище» начинает кружить башку…
Вот так беспомощно он барахтался в своих жалких мыслях, а в то же время его не покидало ощущение какой-то упущенной возможности. Вдруг осенило: да ведь Арт Даппертат предлагал ему в ту ночь какие-то деньги! Ну, Саша Корбах в своем репертуаре! Второй раз Фортуна таких подарков рассеянным не преподносит. Здравомыслящий читатель спросит: да почему же? Разве сложно написать письмо в Нью-Йорк и напомнить молодому удачнику о его порыве? Здравомыслящий, очевидно, еще не врубился в характер нашего персонажа. Конечно, ему это сложно или попросту невозможно.
Каждый день он звонил Норе, чаще всего из таксофона в Венис, на грани песка и асфальта. Всякий раз попадал на автоответчик. Быстрый формальный женский голос произносил: «Привет! Вам перезвонят, если вы оставите номер своего телефона. Начинайте говорить после сигнала». Даже от этого почти неузнаваемого голоса у него начиналась какая-то левитация всего организма: маячил член, раздувались легкие, пыталось выскочить сердце, парила башка. Казалось, что и в этой скороговорке слышится та ночная сладостная нотка, адресованная лично ему. А может быть, не ему, а кому-нибудь другому? Еще не осознав, что ревнует, видел, что небо над пляжем набухает чем-то невыносимым. В конце концов он записался на проклятую машинку: «Нора, это Алекс! Я не могу до тебя дозвониться! Куда же ты пропала? Я просто умираю без тебя! Нора! Нора!» На следующий день вместо формальной скороговорки в трубке прозвучало другое: «Алекс, ну что ты за глупец! Почему ты не оставил номер своего телефона? Ты помнишь Гретчен? Она тоже умирает без тебя! Оставь свой номер, и все будет в порядке!» Вмешалась телефонная компания: «Положите еще один доллар и двадцать пять центов, чтобы продолжать».
Но он уже несся под темнеющими небесами в надувающемся под ветром пиджаке, альбатросом скользил под качающимися фонарями. Такси! В аэропорт! Через полчаса он уже слонялся в стеклянных переходах аэропорта. После покупки билета на TWA у него в кармане осталась двадцатка. В баре он взял пива и попросил на пятерку четвертаков для телефона. Осталась десятка. Что может быть лучше пива перед полетом, перед таким полетом! Какие здесь, право, устраивают уютные бары! А эти аэропортовские бармены, само достоинство, само дружелюбие!