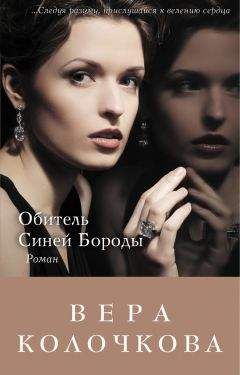Первая, молодая, имела собственные проверенные методики, позволявшие ей избавляться от ответственности за будущих рожениц, временно вверенных ей в опеку.
— Вам надо на сохранение, — уговаривала она меня, еще худенькую, не привыкшую к беременности. — Вы знаете, как бывает? Одна пациентка во время беременности полностью потеряла зрение, ее потом муж бросил. А у другой плод загнил в утробе, тянули грузом. Муж, разумеется, бросил, сама стала калекой, почти не ходит. Почки отказывают, печень барахлит, сердце не выдерживает. Нет, на сохранение, только на сохранение!
Я сменила специалиста, но вторая, старая, раз и навсегда отбила у меня охоту ходить в консультацию, встретив меня душераздирающим криком:
— Вы что, хотите погубить меня, посадить в тюрьму?! У меня же внуки!
Я растерянно оглядывалась и осматривала себя, пытаясь обнаружить, где таится погибель гинеколога, но так ничего и не поняла.
— Вы же зашли в расстегнутых сандалиях, сейчас наступите на ремешок, упадете, преждевременные роды, и меня за вас в тюрьму! А мне внучку поднимать.
В самом деле, при входе в кабинет полагалось переобуваться, и мой изрядно выросший к тому времени живот помешал мне застегнуть принесенные на смену босоножки. Что может быть страшнее разбушевавшегося гинеколога? Фурия ошеломляла криком, сверкала базедовыми глазами, золотыми зубами и бриллиантами в ушах, всплескивала руками, искренне возмущалась, обращаясь к сестре. Та согласно кивала. Я дрожала, как пойманный заяц, и в самом деле чуть не родила.
— Ну вот, матка в тонусе, — удовлетворенно констатировала она после осмотра. — Нужно в больницу.
Зеленая тоска больницы пугала меня гораздо больше, чем тягостное домашнее одиночество, и следующий плановый визит я пропустила, не найдя сил встретиться со своей мучительницей. Но она с криками ворвалась ко мне в квартиру.
— Почему вы не пришли, решили посадить меня? Немедленно на сохранение, собирайтесь, внизу ждет “скорая”.
Я спряталась в постели, пережидала бурю, по-страусиному натянув на голову одеяло, а она кричала:
— Как вы смеете лежать, когда я с вами разговариваю? Немедленно встать! Ну, мамаша, воспитали вы дочку на свою голову.
Избавиться от нее удалось лишь после того, как она снова привела мою матку в тонус, а я дала подписку о том, что снимаю с нее всякую ответственность за все, отныне происходящее со мной.
Мой исстрадавшийся муж нашел лучшего в городе специалиста. Пожилая красивая дама, главврач прекрасного роддома, спокойно осмотрела меня:
— Кто у тебя участковый? Зелькинд? Известная дурища. Все у тебя в порядке, бедра — закачаешься, родишь как миленькая, а пока отдыхай, радуйся. Вот родишь — будет не до отдыха, вспомнишь еще это времечко, последние в твоей жизни свободные денечки. Рожать приедешь ко мне в клинику.
Май был чудовищно жарким, июнь еще жарче, и я спасалась от утомительной жары почти непрерывной дремой. В то солнечное воскресенье рожать я не собиралась, целые две недели отделяли меня от рокового срока, хотя мама постоянно уговаривала меня:
— Рожать надо до четырнадцатого, на неделе Всех Святых, после четырнадцатого пост. А еще лучше четырнадцатого, в воскресенье. Кто родится в воскресенье, будет просто загляденье, постарайся уж, порадуй меня.
Я нежилась в постели, не желая расставаться со сном, когда муж сказал мне:
— Сегодня в городском парке выставка собак, Вадик звал, пойдем?
Не открывая глаз, я покачала головой:
— Жарко, иди один, прогуляйся, купи мне клубники, а я буду спать до твоего возвращения. Мама придет через полчаса.
Я понежилась еще немного, потом еще немного, задремала, а проснулась от странного ощущения. Мне показалось, что внутри меня тихо-тихо, нежно, осторожно лопнул мягкий воздушный шарик. Я прислушалась к своему телу. Было тихо, даже привычных толчков не было, и ничто не предвещало перемен, разве что внезапно появившееся ощущение незащищенности и открытости, незамкнутости, неполноты, недостаточности. И тут же из меня тоненьким теплым ручейком потекла, заструилась водичка. Мои мускулы не слушались меня, и никакими привычными способами нельзя было остановить эту струйку, такую тонкую и неумолимую, никак нельзя. Мне предсказывали мальчика, но я представила крохотную девочку, которая, так же как и я недавно, нежилась во мне, словно в колыбельке, и увидела внутренним зрением, как исчезает, выливается из меня ее постелька, истоньшается мягкая перинка, становится плоской подушечка, как дочка моя просыпается от потревожившего и ее ощущения незащищенности. Опасность сжала мне горло, и, услышав звук открывающейся двери, я хрипло пискнула:
— Мама!
Извлечь мужа из парка не представлялось возможным, и за дело взялась мама. “Скорая” приехала через час, молодой врач был неумолим:
— Никакого второго, сегодня возим в первый.
— Но Вероника Аркадьевна сказала…
— Мне Вероника Аркадьевна не указ, дежурит первый.
Струйка давно уже превратилась в поток, спорить было неблагоразумно, и мы поехали.
В приемном покое холеная красавица сестра в безукоризненном халатике, надетом только на лифчик и трусики, беспощадно и споро, как полковой парикмахер Швейка, выбрила меня, слегка поранив, но порезы эти, значительные в будни, в этот день воспринимались лишь как репетиция, простейшее упражнение, неизбежное перед будущим кровопролитьем. С легкой брезгливостью кинула мне напоминающую рубище рубаху.
— У меня есть своя…
— Нельзя, у вас грязная, у нас тут все стерильно.
Вспоминая свою, белую, словно крылья ангела, в кружевах и бантиках, я, чувствуя себя каторжницей или пациенткой сумасшедшего дома, надела эту, цвета дешевой туалетной бумаги, разорванную от ворота до лона. Увидев сквозь прореху свой туго натянутый живот и удивленный выпуклый глаз пупка, робко попросила:
— Нельзя ли поменять, вот смотрите…
— Не капризничайте, мамочка, это ненадолго, все равно марать, а там вам будет все равно.
Это “там” привело меня в состояние такой крайней задумчивости, что в себя я пришла лишь в предродовой. Несколько разновозрастных женщин вели беседу, по вере в человеческие возможности не уступающую уговорам моей матери.
— Сегодня дежурят Сергей Иванович и Володя, придется терпеть до вечера, в восемь пересменок, придет хорошая бригада, там Рахиль Соломоновна и Мария Игнатьевна.
Было двенадцать, и я удивилась:
— Почему надо терпеть?
— Сейчас придут — увидишь.
Не увидеть мог только слепой, девиации в поведении дежурных гинекологов бросились бы в глаза даже пятилетнему ребенку. Сергей Иванович, усатый, породистый, словно выставочный кот, вошел первым, оглядел всех мудрыми глазами. Он был безбожно, непростительно для июньского полдня пьян. За ним покачивался Володя.
— Как дела, девоньки?
Они начали обход, совещаясь между собой. Меня всегда поражали коллеги-математики, ухитрявшиеся в сильном подпитии читать лекции по математическому анализу и делать при этом не больше ошибок, чем их трезвые собратья. Но и гинекологи не подкачали: видно, пропить профессионализм очень непросто.
— Надо прокалывать пузырь, на кресло. Так, здесь матка открылась на четыре пальца, в родилку.
— Может быть, еще рано, доктор? Можно я пока схожу в туалет?
— В родилку, а то родите на унитазе.
Несчастную увели.
Сергей Иванович подошел ко мне, и я увидела его смеющиеся, все видевшие глаза, красноватые от многодневного пьянства. Я боялась мужчин-гинекологов и в своих случайных мыслях по поводу их персон слегка жалела: тяжело, наверное, им, беднягам, желать и любить женщин. Но этот, несмотря на свое многотрудное занятие, похоже, не потерял ни жажды жизни, ни интереса к женщинам — да, настоящий мужчина. А пьяный — да кто бы на его месте не пил? Он поднял мою рубаху, скользнул взглядом по животу, провел по нему умелой рукой.
— Сколько лет?
— Двадцать четыре.
— Так, старородящая.
Даже сейчас, выбритая до синевы и украшенная чудовищным животом, я огорчилась, услышав это определение, прозвучавшее как приговор моей женственности.
— Когда начали отходить воды?
— В девять.
— Четыре часа прошло. Схваток нет?