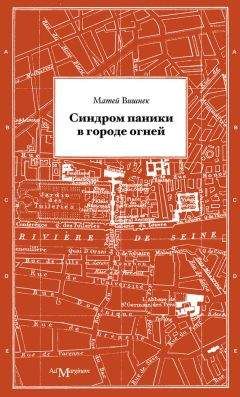— На четвертой минуте должен быть заявлен конфликт, иначе зритель начнет скучать.
— На минуту номер восемь должно быть поставлено первое опасное действие.
— С десятой минуты запускается механизм нагнетания саспенса.
— На пятнадцатой минуте зритель получает первый масштабный сюрприз.
— На двадцать пятой минуте мы присутствуем при развороте ситуации на сто восемьдесят градусов…
«Вот точно так они пишут для нас последние известия, — заключил Жорж. — Проходимцы, одно слово…»
Точно так, с той только разницей, что зрелище текущего момента писалось СМИ в других масштабах. И по мере того как мондиализация нарастала, а язык ее технологий унифицировался, зрелище принимало действительно планетарные масштабы.
В эту самую минуту, к примеру, для нас пишут сценарий на сотню лет вперед, размышлял Жорж. Да, конфликт, намеченный 11 сентября 2001 года, положил начало зрелищу длиной в сто лет. Стороны конфликта уже обозначены: с одной стороны, терроризм, с другой — цивилизованный мир. В сценарии самое главное — закрутить конфликт. Как только конфликт закручен, все остальное — это уже детские игрушки: и создание персонажей, и сочинение всего ряда эпизодов…
Какой-то шум привлек внимание мсье Камбреленга. На другом конце огромного пустого бюро, которое они только что прошли, шебуршилось какое-то привидение. Кто-то, по всей вероятности, уснул под ворохом газет, а теперь зашевелился, потревоженный шумом шагов.
Мсье Камбреленг и Жорж подошли к человеку, который пытался скинуть с себя газеты и подняться на ноги.
— Простите, — сказал тот, смущаясь, с сильным иностранным акцентом.
У человека была чрезмерно пышная борода, заплывшие глаза и опухшая от спиртного физиономия.
— Вы из какого отдела? — спросил его мсье Камбреленг.
— Из латинского, — с улыбкой ответил проснувшийся и закашлялся.
Мсье Камбреленг протянул ему свой кофе. Человек принял его с глубочайшей признательностью, отпил глоток-другой, потом тоже задал вопрос мсье Камбреленгу.
— Мы знакомы?
Мсье Камбреленг усмехнулся с таинственным видом.
— Я думаю, да. Вы ведь мсье Z.?
С тех пор как я начал писать этот роман, может быть, нетипичный для данного литературного жанра, со мной происходят удивительные вещи: меня осаждают разные незнакомые люди, которые хотят рассказать мне свою жизнь.
Сначала я не придавал слишком большого значения этим покушениям на мою персону со стороны желающих стать персонажами. Впрочем, поначалу их попытки завязать со мной диалог были относительно деликатными.
— Вы итальянец? — спросил меня как-то булочник, у которого я обычно покупал хлеб.
— Нет, — отвечал я. — Румын.
— А! Вот почему у вас выговор, как у итальянца, — обрадовался он.
И, пользуясь тем, что в булочной, кроме нас, никого не было, одним духом выпалил мне свою историю: что его жена итальянка, откуда у него и чутье на латинские акценты. Что он пожил в Италии, но потом уговорил жену все-таки переехать в Париж. Что у него уже два года как куплена эта булочная и дела идут хорошо, особенно хорошо продается его итальянский багет. Может, французам поднадоел их чисто французский багет, хочется разнообразия… впрочем, и я покупаю у него изо дня в день итальянский багет, не французский, значит, мне тоже нравится итальянский хлеб. Итальянцы кладут в хлеб чуть больше сахара, чем французы, но это секрет, и он приберегал его для меня лично…
— Как знать, может, он вам когда-нибудь пригодится…
Разговор, который я здесь привел, не вызвал у меня в тот момент каких бы то ни было подозрений. Я ни на секунду не задумался, где бы мне мог пригодиться тот секрет, который мне выдал булочник… Откуда ему было знать, что я пишу роман и что все места и все люди, которые попадаются на моем пути, так или иначе превращаются в ингредиенты романа?
Однако на рю Муфтар мне случилось столкнуться с вопросом прямой наводки. Когда я покупал помидоры у молодого зеленщика с арабской внешностью, он без экивоков спросил меня, не собираюсь ли я ввести в свою книгу такого персонажа, как магребин.
У меня глаза на лоб полезли, и я переспросил:
— Что-что?
Зеленщику-арабу некогда было мной заниматься. Торговый день был в разгаре, и он не хотел терять покупателей. Однако он шепнул мне с фамильярностью, попахивающей либидо: знаю, знаю, вы пишете про нас роман. Мы все тут, на рю Муфтар, это знаем… Вы не стесняйтесь, если понадобится — так вы прямиком к нам…
На террасе кафе «Сен-Медар», куда я заходил почти каждый день то посидеть за кофе или пивом, то пообедать, взгляды, которыми меряли меня другие посетители, со временем стали крайне назойливыми. Некоторые, взглянув на меня с любопытством, начинали шушукаться. Я просто не смел поднять глаза и оглядеться по сторонам, потому что рисковал в любую минуту встретить физиономию, которая приветствовала меня с медовой улыбкой или посылала мне воздушный поцелуй. Чьи-то жесты были сластолюбивы, чьи-то провокационны, а чьи-то просто грубы и бесцеремонны. Однажды какой-то крайне сомнительный тип подошел ко мне и категорически потребовал вымарать его из книги, если я уже успел ввести его под видом персонажа.
Раз, вернувшись домой около часу ночи, я различил в темноте чей-то силуэт, расположившийся в единственном кресле моей единственной комнаты.
— Я — мадам Фуасси, — представилась она.
И, не дав мне раскрыть рот, мадам Фуасси попросила меня присесть рядом с ней на табурет и внимательно ее выслушать. Она сразу же предупредила меня, чтобы я не пугался и сохранял спокойствие. Да, может быть, идея явиться ко мне домой и поджидать меня там — не самая удачная. Но по-другому она не могла. Она не могла по-другому, потому что я поступил с ней не по справедливости. Разумеется, я, в качестве писателя, имею в некотором роде сходство с Господом Богом. Я могу делать что хочу с моими персонажами. Я могу либо развить их линию, либо нет, придать им статус главного героя или оставить на заднем плане, даже убить их, убрать со сцены в любой момент чисто физически или просто перестав упоминать. Она не собирается вмешиваться в мою писательскую кухню. Но поскольку я все-таки преподнес ей дар и ввел в роман — она хочет попросить меня прояснить ее судьбу.
— Вы ввели меня, — сказала она, — надеюсь, вы помните, в первую треть книги, в ту главу с Франсуа, где он возвращается домой и видит, что его вещи выброшены в окно. Помните или нет?
Автор не может лгать своим персонажам, так что я признался в том, что мадам Фуасси уже знала: я помнил о ней смутно и уж во всяком случае не собирался развивать ее книжную судьбу.
— Вы уделили мне одну-единственную строчку, — сказала, на сей раз со всплеском укоризны, мадам Фуасси. — О дну-единственную…
И эта укоризна сопровождалась пристальным взглядом, который принудил меня наконец-то тоже вглядеться в свою гостью. Мадам Фуасси оказалась изящным существом с ладной фигуркой и совершенно кошачьей повадкой. А в том, как она свернулась в клубок на моем кресле, да еще сбросив туфли, было нечто вызывающее (я сразу отметил эту деталь: женщина, которая сбрасывает туфельки и уютно устраивается в кресле у мужчины, не собирается скоро уходить).
— Мадам, — сказал я, — вы ставите меня в такое положение…
Тут я осекся, потому что мадам Фуасси положила свою левую руку на мою левую руку, а правую руку на мою правую руку и приблизила ко мне лицо. От нее пахло духами «Герлен», а на шее у нее было колье с изящными критскими мотивами.
— Я хочу побыть с автором, — сказала она. — Раз уж на то пошло.
Среди множества прочих вещей, общих у нас с мсье Камбреленгом, было удовольствие от встреч с писателями, мнящими себя великими. Как минимум раз в месяц мсье Камбреленг брал меня с собой на званый ужин, устраиваемый тем или иным французским писателем-мегаломаном. Взамен он просил меня знакомить его с писателями-мегаломанами из Восточной Европы, которых называл не иначе как «прелесть что за типы». Мсье Камбреленг был того мнения, что французская мания величия не идет ни в какое сравнение с восточноевропейской. Претензии французов имеют удобный исторический цоколь. Мания же величия по-восточноевропейски — это что-то утробное, нутряное, что-то вроде сведения счетов с историей, и отсюда она куда как более живописна.
— Посмотрите на русских, — восклицал мсье Камбреленг. — Как хороши русские мегаломаны! Стоит им прибыть на Запад, им тут же начинает чего-то не хватать. Чего же им не хватает? У себя дома они несчастны, потому что им не хватает свободы, потому что их довел до ручки коммунизм, потому что, по их ощущениям, они отрезаны от цивилизации и так далее. А приедут сюда — начинают задыхаться.