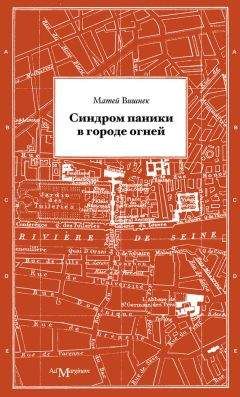«На Западе нет жизни…» Эту фразу я и правда часто слышал из уст многих своих собратьев-писателей из Восточной Европы. Для них, и вообще для всех выходцев с Востока, жизнь означает в первую очередь некоторое право на импровизацию. По крайней мере до падения коммунизма ты, если чувствовал себя одиноким, в Бухаресте, в Белграде или в Софии, шел к друзьям без звонка и без предупреждений. Для многих восточноевропейцев, осевших на Западе, главная перемена состояла не в географическом перемещении в другое пространство, где говорят на другом языке, а в потере этой возможности. Как это — нельзя прийти к кому-то просто так, когда тебе грустно, тошно, мерзко, когда надо пропустить стакан вина-пива или когда ты, наоборот, так счастлив, что тебе дозарезу надо разделить с кем-то свою переполненность? Несмотря на все перипетии, через которые прошел Восток, это был мир гуляк. Гуляками были все и, значит, все уважали неписаное правило: люди могли заявиться в гости друг к другу без предварительной договоренности. На Западе же, если ты хочешь с кем-то повидаться, особенно с западным человеком, первое, что он сделает, это сверится со своим ежедневником: «Да, мы сможем встретиться, скажем… через две недели, в четверг 26 мая, в 18.30… Вас это устроит?» Нет, никакого восточноевропейца никогда не устроит, чтобы ему назначили излить душу через две недели в 18.30 ровно. Восточноевропейцу нужно повидаться с кем-то прямо сейчас, ему нужно знать, что в любой момент его примут в доме ближнего, в доме друга…
В тот вечер ужин имел место в квартире, расположенной вблизи церкви Сен-Сюльпис, в одном из тех старых парижских домов, которые насчитывают несколько веков истории. Кстати, тот, кто приезжает в Париж, но не имеет доступ в дома, за стены и фасады, в салоны, где разворачивается ритуал парижской жизни, — тот лишь скользит по тонкой корочке монументов и музеев, которые покрывают город. В какой-то степени Париж есть город-блиндаж, он защищается своим блеском, по видимости открытым для всех. Кафе, рестораны, бары, книжные и антикварные лавки, театры, синематографы, концертные залы, джазовые клубы, галереи искусств, магазины, бульвары, площади, мосты, набережные Сены, парки, пешеходные зоны, церкви и соборы, кварталы публичных домов и секс-коммерции, сотни музеев, размещенных во дворцах, — все это невероятное изобилие дает прибывшему в Париж ощущение, что он имеет доступ к городу. Однако на самом деле нужны иногда годы, чтобы обнаружить скрытый Париж, частный Париж, тайный Париж, тот Париж, который показывается, только когда ты заводишь связи, когда тебя начинают приглашать на званые ужины, когда ты проникаешь за стены.
— Как он все-таки хорош, Париж! — воскликнул мсье Камбреленг.
Мы прошли вверх всю рю Муфтар и теперь шли мимо Пантеона. Холм Святой Женевьевы кишел народом, студенты выходили из библиотек Сорбонны и Юридического факультета. Был тот час, когда вечер выводил на улицы совсем другой люд — веселее, развязнее, люд, ищущий, где бы расслабиться, где бы отхватить свою порцию удовольствия. Парочками и стайками они шли от ресторана к ресторану, изучая меню, выставленные снаружи, или образовывали очереди у синематографов.
Пока мы направлялись к Люксембургскому саду, на горизонте показалась верхушка Эйфелевой башни, искрящаяся, как рождественская елка.
Я спросил мсье Камбреленга, поднимался ли он когда-нибудь на Эйфелеву башню.
— Нет, — отвечал он.
Как всякий уважающий себя парижанин, мсье Камбреленг никогда не поднимался ни на одно из мегаломанских сооружений Парижа. Он не поднимался на Эйфелеву башню, он не поднимался на Монпарнасскую башню, он не поднимался на Триумфальную арку.
— А на крышу Нотр-Дама?
— На крышу Нотр-Дама да, это да…
Париж по сути своей есть город-мегаломан. Мсье Камбреленг в этом нисколько не сомневался. Бывают люди-мегаломаны и города-мегаломаны.
— Вам никогда не приходило на ум, что вы на пути к мегаломании? — спросил меня мсье Камбреленг. — Вы никогда не говорили себе, хотя бы втайне, такую фразу: «Пусть я еще и не мегаломан, но скоро им стану»?
Ответа от меня мсье Камбреленг не ждал.
Мегаломания под стать безумию, стал разглагольствовать он, это такие вторичные состояния, к которым приближаются постепенно, незаметно. Ни один сумасшедший не признается, что он сумасшедший. Напротив, сумасшедшие считают, что им удалось подняться на определенную ступень внутренней свободы и они могут сверху вниз смотреть на мир, все еще находящийся в оболочке условностей и абсурдных социальных законов.
Мсье Камбреленга понесло — как всегда, когда он увлекался темой, которая соседствовала или шла по касательной с мегаломанией. Ему всегда нравились мегаломаны. Уже в детстве он заметил одну вещь: что некоторые люди говорят больше, чем другие, и хотят, чтобы их слушали больше, чем других. Мегаломания поражает, кстати, людей вне зависимости от их культурного уровня или от положения в обществе… Мсье Камбреленг встречал на своем веку продавцов с манией величия, дворников с манией величия, трактирщиков с манией величия, политических деятелей с манией величия, учителей с манией величия, врачей с манией величия…
— Когда же я начал склоняться к мысли, что страстью моей жизни станет литература, меня инстинктивно потянуло к писателям с манией величия, — продолжал мсье Камбреленг. — Я посвятил им многие часы моей жизни, вникая как в их творчество, так и в их жизнь…
Так вот, писатели-мегаломаны тоже бывают двух родов: великие писатели-мегаломаны и малые писатели-мегаломаны. С точки зрения мегаломании они, конечно, одинаково великие, вот только их наследие различается по степени важности. Первым мировым рассадником писателей-мегаломанов была, бесспорно, Франция. Разве Виктор Гюго, например, о котором все до одного литературоведы говорят, что он страдал манией величия, не был народным писателем Франции? Жан Кокто (другой мегаломан) говорил об авторе «Отверженных»: «Виктор Гюго был сумасшедшим, который считал себя Виктором Гюго». Девизом Гюго было: «Ego Hugo», а своим легендарным тщеславием он прославился еще с юношеских лет. Даже и некоторые из его названий — явно мегаломанские, как, например, «Легенда всех веков». С какой помпой сказано! Франция вообще — такое место, которое поощряет мегаломанию по преимуществу. Разве Париж — не Город огней? Эйфелеву башню строили как самое высокое сооружение в мире, разве не так? Елисейские поля — самый красивый бульвар в мире, не так ли? А Версальский дворец разве не самый блистательный в мире? Взять Людовика XIV — ведь он король-солнце! А Лувр — самый большой музей мира! В той же Франции зародился и литературный гигантизм. Энциклопедисты (Дидро, Вольтер, Руссо и прочие) хотели собрать воедино, в одно издание, весь багаж знаний о мире. Универсализм — тоже французское изобретение. Разве это не мегаломания — установка на такие литературные и философские сочинения, в которых было бы схвачено то, что есть в человеке универсального? Какой вкус надо иметь к мегаломании, чтобы назвать свои сочинения «Человеческой комедией»!
— Присядем где-нибудь, я что-то устал…
Всякий раз, как мсье Камбреленг с пылом разражался десятиминутной или четвертьчасовой тирадой, он уставал. Мы сели на террасе кафе у театра «Одеон», где было очень людно. Какой-то юноша отделился от толпы, которая кишела на ступенях театра, и подошел к нам спросить, нет ли лишнего билетика.
— А что играют? — спросил мсье Камбреленг.
— Одну пьесу Матея Вишнека, — отвечал юноша.
— У вас случайно не найдется лишнего билетика? — спросил меня мсье Камбреленг.
Я покачал головой.
— Нет, к сожалению, — ответил мсье Камбреленг юноше, который спрашивал лишний билетик.
Тот отскочил от нас и вернулся на ступени театра в надежде, что в конце концов кто-то продаст ему лишний билетик. Впрочем, он был не один такой, многие тоже ловили удачу, а у некоторых на картонках или на листках бумаги было так прямо и написано: «ищу лишний билетик». Кельнер принес нам два стакана пива, даже не спросив «чего изволите». А прежде чем отойти от столика, протянул мне блокнотик и попросил, смущаясь, дать ему автограф…
Когда мегаломания начинает просачиваться в душу писателя? Трудно сказать. Вообще говоря, человек, который хочет писать, который считает, что ему есть что сказать человечеству, уже по самой этой установке — немного мегаломан. Как иначе вообразить, что твой голос еще что-то значит после того, как столько всего было сказано на земле?
Или как осмелиться писать, не прочтя всего, что было написано до тебя? Вот вкратце определение для мегаломана (или грандомана): персона, которая имеет преувеличенное мнение о своих достоинствах. А от мегаломании один шаг до мании преследования.