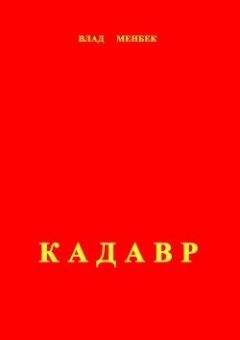Стояла промозглая калифорнийская ночь, адом Рамона располагался в стороне от дороги в холмах. На парнишках были армейские брюки и белые футболки. Оба — мускулистые, довольно симпатичные, с приятными извиняющимися лицами.
Говорил Линкольн:
— Мы читали о вас, мистер Васкес. Простите, что побеспокоили, но нас глубоко интересуют голливудские идолы, и мы выяснили, где вы живете, а тут проезжали мимо и не утерпели — позвонили.
— А вам не холодно, мальчики?
— Да-да, холодно.
— Не зайдете на минуточку?
— Нам не хочется вас беспокоить, мы не хотим мешать.
— Все в порядке. Заходите же. Я один.
Мальчики вошли. Встали посреди комнаты, нелепые, растерянные.
— Ах, прошу вас, садитесь! — произнес Рамон. Указал на оттоманку. Мальчики подошли, сели, несколько напряженно. В камине горел огонек. — Я принесу вам что-нибудь согреться. Одну минуточку.
Рамон вернулся с хорошим французским вином, открыл бутылку, опять вышел, затем вернулся с 3 охлажденными бокалами. Разлил на троих.
— Попробуйте. Очень приятное.
Линкольн выпил довольно быстро. Эндрю, посмотрев на него, сделал то же самое. Рамон долил.
— Вы братья?
— Да.
— Я так и подумал.
— Я — Линкольн. А он — мой младший брат Эндрю.
— Ах вот как. У Эндрю очень утонченное и чарующее лицо. Задумчивое. И в нем есть нечто зверское. Быть может, ровно сколько необходимо. Хммм, можно попробовать устроить его в кино. Я, знаете ли, по-прежнему обладаю неким весом.
— А что с моим лицом, мистер Васкес? — спросил Линкольн.
— Не такое утонченное — и еще более зверское. Настолько, что в нем почти животная красота; вот… это и еще ваше… тело. Простите, но вы сложены, как чертова обезьяна, которую обрили почти наголо. Однако… вы мне очень нравитесь — вы излучаете… нечто.
— Может, голод, — произнес Эндрю, впервые раскрыв рот. — Мы только что приехали. Из Канзаса. Колеса спустило. Потом полетел этот клапан проклятый. Все наши деньги сожрали шины да ремонт. Вон он снаружи, «плимут» 56-го года — мы его даже на лом за десять баксов сдать не можем.
— Вы голодны?
— Еще как!
— Так погодите, боже святый, я вам чего-нибудь принесу, я вам что-нибудь приготовлю. А пока — пейте!
Рамон исчез в кухне.
Линкольн взял бутылку, отхлебнул прямо из горла. Долгим таким глотком. Потом передал Эндрю:
— Допивай.
Только Эндрю опустошил ее, вернулся Рамон с большим блюдом — чищенные и фаршированные оливки; сыр, салями, пастрама, крекеры из белой муки, зеленый лучок, ветчина и фаршированные яйца.
— О, вино! Вы все допили! Прекрасно!
Рамон вышел, вернулся с двумя запотевшими.
Откупорил обе.
Мальчики накинулись на еду. Много времени это не отняло. Тарелка была чиста.
Затем приступили к вину.
— Вы знали Богарта?
— Ну так, немножко.
— А Гарбо?
— Ну разумеется, дурачки.
— А Гейбла?
— Шапочное знакомство.
— Кэгни?
— Кэгни я не знал. Видите ли, большинство тех, кого вы назвали, — из разных эпох. Иногда я убежден, что некоторым более поздним Звездам не нравилось — и посейчас очень не нравится, — что я заработал большую часть моих денег еще до того, как все гонорары стали пожираться налогами. Но эти Звезды забывают, что в смысле заработка я никогда не получал их раздутых гонораров. Которые они теперь учатся защищать при помощи своих экспертов по налогам — те им показывают, как эти налоги обойти, реинвестициями и прочим. Как бы то ни было, на приемах и так далее вспыхивают разные эмоции. Они думают, что я богат; я думаю, что богаты они. Нас всех слишком волнуют деньги, слава и власть. У меня же осталось лишь на то, чтобы удобно дожить свой век.
— Мы о вас много читали, Рамон, — сказал Линкольн. — Один журналист, нет, два журналиста утверждают, что вы всегда держите наличкой 5 штук в доме. Как бы на карманные расходы. И по-настоящему ни банкам, ни вообще банковской системе не доверяете.
— Не знаю, с чего вы взяли. Это неправда.
— «ЭКРАН», — ответил Линкольн, — сентябрьский номер за 1968 год; «ЗВЕЗДА ГОЛЛИВУДА, СТАРАЯ И ВЕЧНО ЮНАЯ», январский номер, 1969. У нас эти журналы в машине.
— Это неправда. В доме я держу лишь то, что у меня в бумажнике, и только. 20–30 долларов.
— Давайте поглядим.
— Пожалуйста.
Рамон извлек бумажник. Там лежала одна двадцатка и три бумажки по доллару.
Линкольн выхватил этот бумажник:
— Забираю!
— Что с вами такое, Линкольн? Если вам нужны деньги, берите. Только бумажник отдайте. Там внутри мои вещи — права, всякие необходимые мелочи.
— Пошел на хуй!
— Что?
— Я сказал «ПОШЕЛ НА ХУЙ»!
— Послушайте, я вынужден попросить вас, мальчики, покинуть этот дом. Вы становитесь буйными!
— Вино есть еще?
— Да, да, есть и еще! Можете все забирать — десять или двенадцать бутылок лучших французских вин. Пожалуйста, забирайте и уходите! Умоляю вас!
— За свои 5 штук ссышь?
— Я искренне вам говорю: здесь нет никаких спрятанных пяти тысяч. Говорю вам искренне от всей души — здесь нет никаких 5 тысяч!
— Ах ты, хуесос лживый!
— Почему обязательно так грубить?
— Хуесос! ХУЕСОС!
— Я предложил вам свое гостеприимство, свою доброту. А вы звереете и становитесь очень недобрыми.
— Это что — жрачка, что ты нам на тарелке вынес? И ты это называешь едой?
— Чем она вас не устроила?
— ЭТО ЕДА ПЕДИКОВ!
— Я не понимаю?
— Маленькие маринованные оливки… яйца фаршированные. Мужчины такую срань не едят!
— Но вы же съели.
— Так ты еще пререкаться, ХУЕСОС?
Линкольн вскочил с оттоманки, шагнул к Рамону в кресле, съездил ему по лицу, жестко, всей ладонью. 3 раза. У Линкольна были большие руки.
Рамон уронил голову, заплакал.
— Простите. Я делал все, что мог.
Линкольн взглянул на брата:
— Видишь? Ебаный хлюздя! РЕВЕТ КАК МАЛЕНЬКИЙ! НУ Я ЕМУ СЕЙЧАС ПОРЕВУ! Я ЕМУ СЕЙЧАС ТАК ПОРЕВУ, ЕСЛИ ОН 5 ШТУК СВОИ НЕ ВЫХАРКАЕТ!
Линкольн взял бутылку, крепко к ней приложился.
— Пей, — сказал он Эндрю. — У нас еще дела. Эндрю тоже крепко приложился к бутылке. Затем, пока Рамон плакал, оба сидели и пили вино, поглядывая друг на друга и размышляя.
— Знаешь, что я сделаю? — спросил Линкольн у брата.
— Что?
— Я заставлю его у меня отсосать!
— Зачем?
— Зачем? Да смеху ради, вот зачем!
Линкольн отхлебнул еще, подошел к Рамону, поднял за подбородок его голову:
— Эй, уебище…
— Что? О пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, ОСТАВЬТЕ МЕНЯ В ПОКОЕ!
— Ты у меня хуй сосать будешь, ХУЕСОС!
— О нет, прошу вас!
— Мы знаем, что ты гомик! Готовься, уёбок!
— НЕТ! ПРОШУ ВАС! ПРОШУ!
Линкольн пробежался пальцами по своей ширинке.
— ОТКРЫВАЙ РОТ!
— О нет, пожалуйста!
На этот раз Линкольн ударил Рамона кулаком.
— Я люблю тебя, Рамон, — соси!
Рамон открыл рот. Линкольн всунул кончик члена ему между губ.
— Укусишь меня, уебище, — и я тебя УБЬЮ!
Рамон, плача, начал сосать.
Линкольн шлепнул его по лбу.
— ЖИВЕЙ давай! Больше жизни!
Рамон зашамкал быстрее, пустил в ход язык. Затем, чувствуя, что сейчас кончит, Линкольн схватил Рамона за волосы на затылке и вогнал до самого основания. Рамон подавился, задохнулся. Линкольн оставил хуй во рту, пока не опустел.
— Так! Теперь отсоси у моего брата!
Эндрю сказал:
— Линк, да я лучше не буду.
— Зассал?
— Нет, не в этом дело.
— Кишка тонка?
— Нет, нет…
— Хлебни-ка еще.
Эндрю хлебнул. Чуть-чуть подумал.
— Ладно, пусть пососет.
— ЗАСТАВЬ!
Эндрю встал, расстегнул ширинку.
— Готовься сосать, уёбок.
Рамон сидел и плакал.
— Подними ему голову. Ему же нравится.
Эндрю поднял голову Рамона.
— Мне не хочется бить тебя, старик. Открой рот. Это недолго.
Рамон раздвинул губы.
— Во, — сказал Линкольн. — Видишь, сосет. И никакой суеты.
Рамон задергал головой энергичнее, пустил в ход язык, и Эндрю кончил.
Рамон выплюнул все на ковер.
— Сволочь! — сказал Линкольн. — Ты должен был это проглотить!
Он подошел и дал Рамону пощечину — тот уже перестал плакать и, похоже, впал в какой-то транс.
Братья опять уселись, допили вино из бутылок. Нашли в кухне еще. Вынесли в гостиную, раскупорили и приложились снова.
Рамон Васкес уже напоминал восковую фигуру покойной Звезды в Голливудском Музее.
— Получим свои 5 штук и отвалим, — сказал Линкольн.
— Он же говорит, что нету, — сказал Эндрю.
— Педики — прирожденные вруны. Я их из него вытрясу. Ты сиди и винцо себе пей. А я этим гондоном займусь.
Линкольн поднял Рамона, перевалил через плечо и отнес в спальню.