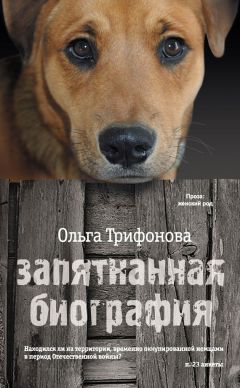Вымыл на кухне посуду, злобное чувство к Альбине мелькнуло, и он знал, что в последний раз вспомнил о ней. Одно из свойств характера: когда кончено, то кончено.
Потом оказался в комнате, где на диване лежал портфель темно-вишневой кожи, и понял, что кружение по кабинету, и чтение мифов, и мытье посуды были оттяжкой вот этого момента: сейчас он откроет портфель, вынет рукопись и начнет читать. Рукопись осталась в портфеле, это он знает точно, потому что потертые бумажки Яков сложил в папочку, которую унес с собой.
«Посвящаю моим детям». Ну конечно, детям в назидание, в оправдание, с тайным тщеславием, с установлением е д и н с т в е н н о й правды, е д и н с т в е н н о й правоты; конечно, детям, кому еще, кроме меня, Купченко и двух старых пней, это интересно?
Но для меня предназначались только «кое-какие главы». Не выйдет. Сам ведь написал: «В науке этики нет», вот я и почитаю твои мемуары.
И сразу разочарование. История детства, описание московского двора, какого-то узкого каменного коридора между домом и трансформаторной будкой. Первый детский ужас — застрял в коридоре, прячась от мальчишек. Запахи крыс и дуста. В сером кирпичном доме размещался Центральный институт дезинфекции. В нем работал отец, и запах пропитал его руки, волосы, одежду. Стал запахом детства. «Тебя еще не было, голубка». Агафонов вспомнил громкий голос «голубки», лицо в красных склеротических прожилках, опухшие ноги. Ей посвящались длинные сентиментальные отступления со ссылками на неведомые читателю происшествия с детьми.
«Ты помнишь, корила Митеньку за то, что потерял галоши? Я узнал потом: галоши отняли хулиганы, и Митенька не хотел ябедничать». Длинная история о том, как зимой в мороз раскачивался на каком-то тросе. Вадик Липкин натянул трос высоко над землей, закрепил и ушел, а он остался висеть над бездной, вцепившись в ледяную сталь. Спас завхоз — гермафродит. Существо загадочное, предмет обсуждения и страха.
«До войны я занимался размножением фагов. Знал, что наследственные признаки могут быть переданы от одной бактериальной клетки другой при помощи ДНК».
«И это была главная мысль, занимавшая меня всю войну. Не улыбайся, милая! В победе я не сомневался и потому, занимаясь тяжелым военным трудом, не оставлял думать о загадочной и прекрасной молекуле».
Война уложилась в перечень городов, госпиталей, будто не был храбрейшим из храбрых, не высаживался с десантом в ад, в самое пекло.
«Умереть было нормой, феноменом — остаться в живых» — вот и все, и ни слова о наградах, о подвигах, о душе своей. Нет, кое-что было.
«Ты помнишь, я рассказывал тебе о жильце полуподвала, отце дефективного ребенка. Его звали Миня. Когда Миня напивался, приходил ко мне, плакал, говорил, что нам „не жить теперь, потому что в и д е л и“. Он оказался прав, мой бескорыстный помощник. Но о нем и о расплате за то, что в и д е л и, — позднее, позднее. Когда речь пойдет о катастрофе и о главной победе моей жизни. А сейчас я хочу рассказать тебе правду о Марии Георгиевне».
Агафонов не помнил Марии Георгиевны, хотя в течение года видел ее каждый день. Вставало что-то расплывчатое: грязная кухня старого деревянного дома, запах керосина и детской мочи, пар над цинковым ведром, ребристая стиральная доска, изможденная женщина и удивительно вкусные, поджаристые картофельные оладьи — деруны.
Минька же предстал вдруг отчетливо, и особенно отчетливо вспомнился великовозрастный дебил Бяка. Бяка целыми днями сидел у окна полуподвала и постоянно занимался одним и тем же сладостным делом: профессионально мастурбировал. Его вполне взрослый детородный орган был доступен всеобщему обозрению.
Агафонов вспомнил, в какой ужас пришла Зина, увидев Бяку. Как ни старался отвлечь ее внимание, как ни предупреждал не глядеть в окно слева от двери — не удержалась. Да еще в момент кульминации. Потом много раз вспоминала. Она любила вспоминать такое. Обсуждала, выспрашивала. Что-то болезненное.
О Марии Георгиевне у Якова какая-то жалкая, мучительная правда. Не любил, но сострадал очень, восхищался мужеством. Помогали друг другу выжить. Может быть, и остался бы с ней навсегда, но она испугалась. Решила, что арест. «Этого мне уже во второй раз не выдержать. Уезжай!
Тебе надо скрыться, исчезнуть, к кольчецам спуститься, к усоногим. Стать последним на лестнице Ламарка».
Жалкое существо с обвисшими грудями, оказывается, знало стихи, и какие стихи!
Агафонов испытал стеснение сердца. Если открывается такое, что же откроется дальше! Как же слеп он был, и как опасно это чтение. Все было сложнее, страшнее, чем думалось ему всегда, и он был в гуще, в самой воронке.
Страшно хотелось пить, и печень заныла привычно. Домашние колбаски «голубки» жирны и явно несвежи. Зачем навалился? Теперь надо искать аллохол. Вдруг вспомнился жирный брюнет с пунцовыми губами. Как он тогда пугал, как угрожал разоблачением его, Агафонова, преступной лжи. Утаить при поступлении, обмануть приемную комиссию, да что там комиссию — первый отдел.
— Первый отдел для того и существует, чтоб не обманывали, — сказал Яков, — а раз обманули, значит, его не существует.
Яков был пьян, и брюнет забыл, что тот четыре года убивал сзади ударом ножа или ребром ладони по горлу.
— Эти слова вам придется повторять, — выговаривали пунцовые губы, — много раз повторить, много, много раз…
— Но… — сказал Яков заикаясь и выставил рогаткой два прокуренных пальца, — но… прежде я ввв-выдавлю тт-те-бе зенки, педрило поганый.
«Педрило поганый» пропел неожиданно плавно и мягко.
Агафонов встречает его теперь иногда, редко, раза два в год, на сессии академии, и каждый раз видит в черных, влажных, еще красивых глазах страх и ненависть.
— Don’t trouble trouble until trouble troubles you[1] [1], — бормотал, роясь в ящике с лекарствами. — Черт знает что себе бормочешь, ища аллохол или холецин…
Вспомнил Аньку, она бы не разрешила есть такую дрянь. Что-нибудь робко промямлила насчет диеты, он бы огрызнулся, но есть уже не стал бы.
Конечно, не стоило ее прогонять так решительно. Просто отодвинуть на время, она подождала бы, но обуяла жажда освобождения от всего. Ради последнего рывка к дзета-функции.
Рывок состоялся, но освобождения не было, потому что пришло мучение. От него и ночевки Альбины безрадостные, и невозможность вернуть Аньку. Анька — свидетель. Глупый, несчастный ребенок, не ведавший, что сотворил. Анька совсем не опасна. Можно было вернуть. Нельзя. Это был тайный подарок Олегу Петровскому. Плата. Заплачено щедро, а Олег молод, у него все впереди. А здесь — последний шанс. Не вовремя вылез его папаша. Совсем не вовремя. «Не трогай тревогу, пока она тебя сама не тронет». И незачем с ним встречаться. Яков послан для того, чтоб с ним не встречаться. Яков — мой защитник. Яков и его замечательный слюнявый дневник.
«„Как трудно преодолеть стереотипы! — восклицал Яков. — Сколько было бы гениальных открытий, если бы люди не вцеплялись мертвой хваткой в первую блеснувшую идею. С идеями надо расставаться легко, как с женщинами, не разлюбив, а полюбив другую. И оставленная найдет счастье с другим, только не надо ее мучить“. Это отрывок из моего тогдашнего дневника, рыбонька. Как я тогда ошибался, не встретив тебя, не полюбив смертельно на всю жизнь. Я ошибался и в отношении науки. Жизнь Бурова опровергла меня. Он добился своего, и сейчас, сегодня прав он, а не я. Но тогда прав был я. Меня трясло от его упрямства и тупости. Я потратил недели, чтоб уговорить его бросить белки и заняться моей золотой ДНК. Его рентгенограммы сэкономили бы мне год труда, но он был непреклонен. Его аспирант Василь Купченко бегал на бойню по утрам, чтобы раздобыть сердце лошади. Выращивали большие кристаллы миоглобина, изучали дифракцию рентгеновских лучей на кристаллах. Бурова я не соблазнил, он вцепился в белок, а мне нужен был человек, владеющий рентгеноструктурным анализом, и вообще рентгенограмма. Буров оказался щедрым, обещал показывать интересные рентгенограммы, а пока посоветовал мне изучить учебник кристаллографии и приниматься самому за дело. „Не боги горшки обжигают. Ничего мудреного нет! Все дело в количестве и качестве“.
Легко сказать: количество и качество. Где я его возьму, когда? В чужой лаборатории в ночные часы?
Я бросил репетиторство дуралеев из соседней школы. Ты знаешь, у нас с Марией Георгиевной был просто конвейер. Я по математике, физике, химии, она — русский, литература, немецкий. Это нас здорово выручало. Родительница по фамилии Козак, начальница поезда, привозила из дальних рейсов в благословенные республики Средней Азии нежных, чуть протухших гусей и гранаты детям, родительница Чуфистова — кости из столовой, где работала коренщицей. В общем, помогали чем могли. Но когда я отстранился, помощь резко сократилась. Математика, физика и химия в комплексе ценились гораздо выше гуманитарных дисциплин. Мария Георгиевна не только не огорчилась, но, наоборот, всячески укрепляла меня в моем решении заняться ДНК. Она очень верила в меня. Ночами я ходил к трем вокзалам, продавал трофейное барахло. Бурова, как уже говорил, не соблазнил. Но вот его ученика…