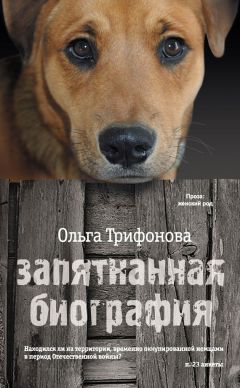Легко сказать: количество и качество. Где я его возьму, когда? В чужой лаборатории в ночные часы?
Я бросил репетиторство дуралеев из соседней школы. Ты знаешь, у нас с Марией Георгиевной был просто конвейер. Я по математике, физике, химии, она — русский, литература, немецкий. Это нас здорово выручало. Родительница по фамилии Козак, начальница поезда, привозила из дальних рейсов в благословенные республики Средней Азии нежных, чуть протухших гусей и гранаты детям, родительница Чуфистова — кости из столовой, где работала коренщицей. В общем, помогали чем могли. Но когда я отстранился, помощь резко сократилась. Математика, физика и химия в комплексе ценились гораздо выше гуманитарных дисциплин. Мария Георгиевна не только не огорчилась, но, наоборот, всячески укрепляла меня в моем решении заняться ДНК. Она очень верила в меня. Ночами я ходил к трем вокзалам, продавал трофейное барахло. Бурова, как уже говорил, не соблазнил. Но вот его ученика…
Василь Купченко. Человек, который всю свою последующую жизнь занимался селекцией микроорганизмов, кое-чего стоит. Я угадал в нем железное, неколебимое терпение истинного труженика. Может, не очень красиво было сбивать с толку прекрасного сотрудника. Но этики в науке нет. Я думаю, так же, как в любви. Хорош бы я был, если б не увел тебя от Шахова.
Так вот, о Купченко. Он все равно „ходил на сторону“. Вместе с одним голодным гением занимался теорией мишени. Это была абсолютно тупиковая идея. Говорю это сегодня не потому, что время подтвердило. Я и тогда сказал им это».
Виктор Юрьевич положил клеенчатую тетрадь на грудь. «Голодный гений». Это, конечно, о нем. О Бурове, удостоенном почти всех премий мира, так не сказал. Это замечательно! Это подарок!
«Значит, все-таки гений. Несмотря на то, что точку на длинном пути к цели ставили другие. Яков, конечно, понимает, что не вина, а беда. Он долгие годы жил как в вате, лишенный самой элементарной научной информации. Но всему миру известно, какой он великолепный ученый.
Брался за самые сложные проблемы. Чего стоит работа по изучению процессов распространения импульса в нервном волокне. Математическая модель для описания поведения мембраны нервного волокна. Сукины дети Ходжкин и Хаксли получили за это Нобелевскую премию, но он, Агафонов, был первым, как первыми были Трояновский и Купченко, сооружая на грязной кухне нелепую модель ДНК. И не их вина, что два других молодца в Кембридже опередили их. Они шли одним путем, только разница была в том, что те получали от глубокоуважаемого Лайнуса Полинга статьи из Штатов и вовремя выспрашивали его простодушного сыночка насчет альфа-спирали, а нас таскали в партком, топтали невежды: „Генов нет, это знает каждый школьник“.
У Якова был поразительный нюх. Сколько мы бились с этой мишенью — и все попусту, никакое усложнение математического аппарата не дало результата. А он вошел румяный, в своей знаменитой обгорелой шинели внакидку, и сказал с порога:
— Кончайте вашу волынку. Дорога ведет в тупик. Я предлагаю вам самую золотую идею века и клянусь памятью Кольцова, что не обманываю.
Если бы он был рядом, с его интуицией, с его умением не уважать, не доверять общепризнанному, общеизвестному, — моя судьба, может быть, сложилась бы иначе.
Стоп! А почему так случилось, что он не был рядом? Ведь был же, был! И он любил и верил. „Я сразу полюбил Витю. Я почувствовал его беду, одиночество, затравленность. Я почувствовал его молодой голод по женщине, по хорошей еде, по дому, по дружбе. Мне нравилась его медлительность, его рыжие волосы, его гордость. Он носил старый байковый лыжный костюм. Всегда и везде. Когда собирались на день рождения к старику, я предложил ему надеть мой трофейный костюм, коричневый в полоску, помнишь, ты потом перелицевала его и сшила себе юбку и Вите пиджак. Как он вспыхнул, как поглядел. „Мне проще не пойти, чем переодеваться в чужое“. Мы тогда были уже очень близкими людьми. Знали друг о друге все, или почти все. Я сказал: „Салага. С друзьями так не обращаются““. Выручила Мария Георгиевна, спокойно объявила, что лыжный костюм не годится хотя бы потому, что давно не стиран, лоснится от грязи. И пока мы будем песнепьянствовать, она приведет его в порядок. Витя вдруг сник, ушел в другую комнату и переоделся. Он любил Марию Георгиевну. Когда я уехал в Оршу, помогал ей. Она мне писала».
Зимой пилили дрова с Бякой. Бяка хохотал, дурачился, чем раздражал ужасно. Агафонов торопился к Зине. Хозяйка ушла на поминки. Обещала вернуться не поздно, к восьми, а сейчас было утро. Десять часов счастья, а этот идиот крал время. Кидался снежками, мычал, пытался что-то рассказать о своей идиотской жизни. Агафонов не выдержал, оглянулся воровато на окно кухни и влепил Бяке хорошую оплеуху. Бяка взвыл и упал лицом в сугроб. Мария Георгиевна вышла не сразу. Утешенный соевой конфеткой, одной из десяти, предназначенных для Зины, Бяка, хлюпая носом, покорно трудился, когда за спиной Агафонова остановилась Мария Георгиевна.
— Витя, вы устали, и у вас шалят нервы, — тихо сказала она.
Бяка старательно потянул к себе пилу и покачнулся, Агафонов отпустил свой конец, обернулся к женщине. Она не смотрела на него.
Агафонов помнил только телогрейку, серый вигоневый платок. Лица не помнил совсем, а вот телогрейку и платок. И еще слова.
— Мы ни разу не выясняли с вами, что произошло. Это ваше дело и ваш крест. Не будем выяснять и теперь. Но только не думайте, ради Бога, что бить убогого меньший грех, чем предать друга. Это добродетели можно сравнивать, а грехи — нет.
Бяка жестами и мычанием торопил продолжить работу.
— Мне кажется… я не заслужил…
Агафонов вдруг почувствовал огромное облегчение. Теперь он наконец может уйти к Зине. Обидеться и уйти.
— Не заслужили. Вам выпали очень тяжкие испытания. Нам всем выпали тяжкие испытания, мы их не выдержали. И вы виноваты меньше всех, потому что молоды, и не мне…
— Вот именно, — холодно сказал Агафонов, — не судите и не судимы будете.
Зина украла у хозяйки заварку, и они пили чай с соевыми батончиками. За окном высился остов храма Александра Невского, сначала он был красным на фоне очень голубого неба, потом серым на сером, потом черным. Они не зажигали огня, и Зина учила его отыскивать ее рот в темноте и еще многому другому. Она делилась с ним всю жизнь охотно и подолгу всему, чему учили ее другие мужчины.
У Аньки была подруга. Какая-то полубезумная поэтесса. Что с ней случилось? Кажется, заболела неизлечимо. А может, умерла? Да, кажется, умерла. Анька ходила сама не своя. Просила через Купченко достать какое-то лекарство. Он забыл о просьбе, и она единственный раз упрекнула:
— У тебя мохнатое сердце.
Лекарство достать, в общем-то, ничего не стоило. Один звонок. Но не хотелось обращаться к Купченко, а главное…
Он хорошо помнил осень в Тимирязевском парке. Загаженный грот. Он помнил, как впервые увидел его другим. Весной они пришли сюда втроем, что-то вроде клятвы Герцена и Огарева на Воробьевых горах. Были приглашены на обед к Петровскому. Доехал тридцать седьмым до Соломенной Сторожки. Парк зеленел так нежно, что щемило сердце. Оно щемило еще и от любви к Зине, от непрекращающейся тоски по ней. Щемило от восторга перед новой жизнью, от преданности Трояновскому. Хотелось, как собаке — чтоб кидал палку и приносить ее в зубах, класть у ног, заглядывать в глаза, вилять хвостом: «Брось еще раз! Ну, брось, пожалуйста, я сбегаю и принесу». Даже темного, почти открытого недоброжелательства Купченко не замечал. Вчера закончил работу. Это была почти гениальная работа. Слепец Корягин так и сказал: «Почти гениальная», а Зина утром сказала: «Давай поженимся».
Со старым покончено. Он больше не одинокий, затравленный, никому не ведомый студент третьего курса мехмата, впадающий в полуобморочное состояние при всяком вызове в деканат. Он сыт, потому что старик Ратгауз дал работу, у него есть замечательный друг, любимая женщина, и впереди Нобелевская премия, которая освободит его от страха навсегда. Зина не могла освободить от страха, потому что что-то темное и странное происходило и с ней. Значит, он освободит и ее. Он, Трояновский и злобный Купченко. Так было весной. Они бродили среди могил, читали знаменитые фамилии, воровали кутью, не думая о кощунстве, и говорили, говорили только об одном: где взять рентгенограммы?
Трояновский давил на Купченко, требовал, чтоб тот совсем и бесповоротно отказался от белков. Длинное, вогнутое лицо Купченко, лицо, похожее на собственное отражение в елочном шаре, так же как отражение, меняло очертания. Ему страшно не хотелось расставаться с белками, а главное, он боялся Бурова.
— Да пойми ты, хохляндия упрямая, что ваши рентгенограммы сэкономят нам год труда. Вы занимаетесь ерундой, вы даже не понимаете смысла собственных экспериментов.