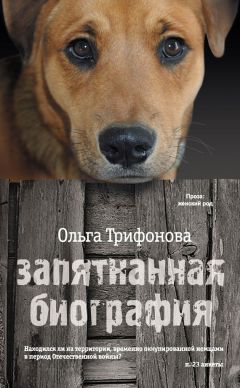— Да пойми ты, хохляндия упрямая, что ваши рентгенограммы сэкономят нам год труда. Вы занимаетесь ерундой, вы даже не понимаете смысла собственных экспериментов.
— Буров понимает, — угрюмо возразил Купченко.
— Буров понимает, — соглашался Трояновский, — но он не понимает бесплодности их. Наследственность в ДНК.
Уговорил Купченко неожиданно, когда казалось, все безнадежно и все доводы исчерпаны. Зачем-то влезли верхом на чугунных лошадей, что стояли перед желтым старинным зданием. Агафонов и теперь помнил гладкость и прохладу чугунных боков, спин. Купченко нелепо корячился, взбираясь на своего скакуна. Хлопал его по черной широкой груди:
— Вот здесь кроется загадка. В сердце, в кристаллах миоглобина.
Трояновский махнул рукой:
— Как знаешь. Как хочешь, не надо. Найдем другого.
И Василь вдруг — неожиданное:
— Пошли к Бурову. Сейчас. Лови момент. В другой раз не решусь.
Это был миг безумия. Отказаться от работы, на которую было потрачено три года, ради химеры. Всю остальную жизнь он расплачивался за этот миг. Двадцать лет в безвестности занимался селекцией микроорганизмов. Превратился сам во что-то, напоминающее объект своих исследований. Создал наконец мощный антибиотик, стал заместителем министра, на пленумах и симпозиумах избегал встречаться с Агафоновым взглядом, чтоб не здороваться; лицо его пожелтело и, оставшись вогнутым, навсегда утратило странное свойство: колеблясь, менять очертания.
Это был безумный, счастливый, замечательный день. Агафонов не ощущал даже зависти Купченко. Не обратил внимания, как Трояновский шуткой снял прямодушную неловкость великого ныне Бурова.
— Слышал, слышал, — сказал Буров, знакомясь. — Николай Николаевич Ратгауз вами пленен. Математическая модель борьбы за существование — замечательнейшая идея, особенно для нынешних времен. Николай Николаевич говорил, что к интегральным уравнениям вы применили теорию групп и добились блестящих результатов.
— Еще бы! — захохотал Трояновский. — На своей шкуре испытывает.
— Что?
— Как «что»? Законы борьбы за существование. Остается только приложить теорию групп.
Буров принимал их почему-то на кухне. Тут же помещалась и загаженная ванна, в ней копошились желтые инкубаторские цыплята, от клеток с дрожащими кроликами шло зловоние.
Похожая на Гоголя острым носом, скобой черных волос и птичьим неподвижным взглядом, жена Бурова, не обращая внимания на гостей, чистила клетки, давала цыплятам корм.
Агафонова поразила вызывающая некрасота хозяев и их жилища. Сухая нелепая женщина в вигоневом лыжном костюме, казалось, не слышала их разговора, но тогда Трояновский закричал:
— Да ведь доказано, что наследственные признаки передаются при помощи очищенного препарата ДНК! Нам нужен ключ, а он лежит в расшифровке рентгенограмм. Весь вопрос в том, какие атомы предпочитают соседствовать друг с другом, и мы должны…
— Вы должны довериться простым законам структурной химии, — не оборачиваясь от клетки, басом сказала Бурова.
— Юзик, — нежно спросил Буров, — Юзик, ты считаешь, что та наша рентгенограмма не была случайна?
— Я считаю, что ты должен помочь этим безумцам, — женщина держала за уши извивающегося кролика, — покажи им ту, где много дифракционных максимумов, и я послушаю, что скажет на это главный безумец.
Они шли к Петровским по аллее, обсаженной молодыми лиственницами. Впереди Бурова. Вигоневые шаровары она сменила на клетчатую юбку с огромными карманами.
Агафонов поспешал рядом. Эта женщина только что сделала что-то очень важное для их судьбы, и, благодаря за это, подольщаясь, он спросил, для чего так много цыплят и кроликов, наверное, для научной работы?
— Для еды, — отрезала Бурова, — исключительно для еды.
«Я хорошо помню этот день, рыбонька, была Пасха. Ранняя. Двадцать четвертого апреля. Я, Витя и Вася были приглашены к Николаю Николаевичу Ратгаузу на день рождения. Это был замечательный человек, блестящий ученый. Автор теории синтетической эволюции. В те глухие времена, когда мы, лишенные всякой информации, отделенные от всего мира непроницаемой стеной, бились над элементарными вещами, он вышел на самые передовые позиции мировой науки. Он соединил биологию с математикой, он первый доказал, что единица эволюционного процесса — популяция, а не особь, как считалось до него. У него шел давний, неутихающий спор с Валерианом Петровским о процессе видообразования. Ратгауз считал, что отбор имеет дело не только со вновь возникающими мутациями, но прежде всего с огромным фондом мутаций, что наследуются не сами признаки, а норма реакции, что фенотип является объектом отбора. Петровский был директором института, но первым человеком в нем был Николай Николаевич. Это знали все. Он был умом, совестью науки. Если б ты знала, каким почитанием и любовью он был окружен. Для меня было огромной честью знакомство с ним, присутствие на его празднике. Не только для меня. Витя сотрудничал с ним, создавая математическую теорию эволюции. Он довел потом эту работу до конца и получил за нее премию. Один. Николай Николаевич уже не существовал, исчез. Это было страшно. Но об этом потом, потом. Я все забегаю вперед, все рвусь нырнуть в черную, бездонную круговерть, закрутившую нас, всосавшую многих в бездну, выбросившую иных на поверхность: Витю, Василя. Да, Василий. Он, пожалуй, единственный не испытывал преклонения перед чудесным стариком. Тут было что-то темное, биологическое, нелюбовь на молекулярном уровне. В нем вообще было много того, что называю молекулярным. Он не верил никому и верил в рок, в предначертание судеб. Верил в сглаз, в какую-то деревенскую чепуху. Не доверял фамилии старика, не доверял имени. Я цитировал ему Лермонтова, помнишь, о докторе Вернере. Он был глубоко убежден, что катастрофа произошла оттого, что верховодили о н и, а мы и м слепо доверяли. Николай Николаевич был русский. Русский больше, чем я, чем Василий, потому что корни его, деды и прадеды его, вросли в русскую культуру глубже, прочнее, качественнее, чем наши. Его генеалогическое дерево плодоносило уже тогда, когда наши безвестные безграмотные предки пахали и жили в нищей деревне. Я не хочу унизить своих, я только хочу сказать, что он один среди ужаса, отступничества и беспомощности не изменил себе. Это он сказал о Менделе: „Кто дал вам право глумиться над именем этого великого ученого?“ Только его одного не смел перебивать Трофим. И все-таки не Ратгауз был предметом моего страстного вожделения. Не его мечтал я сделать своим другом, своим соратником или сообщником, как называли потом. Буров был предметом обольщения, Буров и рыжеволосый угрюмый мальчик. Купченко был уже в кармане. Ему, как говорит наш Митя, „не светило“ под Буровым. Буров мог бы сэкономить нам год труда. Он был лучший, может быть, единственный специалист по рентгеноструктурному анализу. Это оказалось роковым. Именно этого несчастного года, потраченного на освоение метода, нам не хватило. Не знаю, может быть, нам не хватило часа, дня, может быть, мы никогда не выбрались бы из тупика, но сейчас, по прошествии стольких лет, именно этот год остался занозой в моем сердце. Так вот, Пасха, весна, молодость, надежды, безумные надежды. Милый домашний праздник. Я сразу же взял быка за рога. Изложил Бурову свою гипотезу, попросил о помощи. Он отказался наотрез. Не помочь нам, нет, — но быть вместе с нами. „Я глубоко убежден, что гены — это особый вид белковых молекул“, — сказал он. Я был убежден в другом. И не без оснований. Перед войной я занимался размножением фагов. Я знал, что наследственные признаки могут быть переданы при помощи ДНК. Я проверял инфекционность. Она оказалась в ДНК. Больше того, я понял, что ключ к разгадке тайны наследственности — в умении расшифровать рентгенограммы.
— Большое дело, — сказал Буров, — не боги горшки обжигают. Возьмите учебник кристаллографии и проштудируйте его, а практику вам Юзефа Карловна поможет освоить.
Юзефа Карловна — жена и сотрудница Бурова. Ас по добыванию великолепных рентгенограмм. Нелепая и удивительная женщина. Она сидела на другом конце стола и, казалось, была поглощена бесконечным спором Ратгауза и Петровского. Но она слышала весь наш разговор. Именно она показала потом нам главную замечательную рентгенограмму, богатую дифракционными молекулами. Тогда еще единственную. У нее были „влажные мозги“, умела по-женски, на лету схватывать суть. А суть была в том, что я вожделел правильного строения генов. Я знал, чувствовал, что ДНК — это что-то простое и красивое».
«О радость! О счастье! Я знал, я чувствовал заранее!» — пел Трояновский. Те же самые слова: «Я знал, я чувствовал!»
«Близок уж час торжества моего, ненавистный соперник…» — он барабанил по клавишам старинного, красного дерева, рояля в полутемном, пропахшем табаком и мышами холле дома Ратгауза. Но это было позже. Летом. Ария Фарлафа. А в тот день он обольщал «известкового человека». Так, втайне для себя, прозвал Виктор Агафонов профессора Бурова. Буров крошился, Яков отламывал его по кусочкам, настойчиво и монотонно. Он стал своим человеком в буровской лаборатории, он отвоевал для Купченко право возиться со своими препаратами, он каким-то непостижимым образом заставил Бурова и Юзю показывать все интересное, что получали те для себя. И под конец они сами не могли дождаться его снисходительного внимания. Он перегнал их. Не в умении, не в знаниях, нет, — Буров продолжал оставаться королем рентгеноструктурного анализа, — но в интуиции. Он предвидел, предсказывал, толковал.