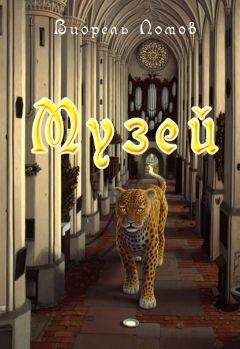— Лёвка, давай пока нету начальства.
Но Иннокентьев показал ему кулак. Обещать-то он обещал, но долго не дает разрешения. Наконец, когда вылезли Петров и Головешкин из майны по железной лесенке живые-здоровые, похожие на космонавтов, и скинув шлемы да резину, убежали в палатку обогрева, Саша позволил Леве примерить сухое снаряжение.
— Макнешься и назад, — сказал он. — Чтобы себя испытать. Не более того.
Но и «макнуться» не удалось. Когда Левке помогли надеть двойную водолазную шерстяную одежду и сверху — резиновый костюм, привинтили трехболтовый шлем, когда Саша показал жестом, чтобы Левка качнул головой, подтравил затылком воздух — помпа уже качала — Хрустов как во сне стоял, глядя из железного шара с запотелым окошечком в огромную зелено-сверкающую полынью, и ничего не делал. «Неужели я сейчас окажусь там?! Да, надо! Я смелый!»
Но беда была в том, что он обманул Сашу — он никогда не спускался в воду, он срисовал с климовского удостоверения на подходящую бумагу и картон необходимые слова печатными буквами, скопировал печать, а затем подмочил и утюгом прогрел — как если бы удостоверение побывало в воде и подпортилось.
Иннокентьев, без очков близорукий, помнится, глянул на документ, кивнул. А Левка лишь у края проруби подумал, что ведь он ни черта не умеет и там, подо льдом, наверное, потеряет сознание.
А тут еще его надумал фотографировать корреспондент Владик Успенский. Долговязый Серега прыгает за спиной Лёвы, чтобы тоже попасть на снимок. Стуча зубами (Серега от холода, а Лёвка от страха и волнения), они топчутся на слепящем снегу, на солнце, а Владик командует, щелкая аппаратом:
— Повернись к солнцу… мне нужен луч света из иллюминатора!
Хрустов вспомнил, как Владик фотографировал неделю назад Климова. Владик орал на весь Зинтат:
— Я хочу, чтобы весь СССР увидел этого богатыря с бородой! И снимите шлем, как космонавт, чтоб пар шел! Нет, наденьте, — он увидел лысину Климова, — нынче наш редактор лысых не любит… Я знаю, жизнь у вас была трудовая… эй, малыш, отойди!
— Он со мной, — сипло пояснил Климов. — Пускай!
И Серега охотно встал за плечом Ивана Петровича.
— По’нято! По’нято! — бормотал Владин, нажимая на кнопку и прокручивая пленку. — Я напишу, что с детства вас из Ростова-на-Дону манила Сибирь, ее северные сияния… Верно, Иван Петрович?
Вспомнив про погибшего товарища, Хрустов и вовсе задохнулся в водолазном шлеме. Ему в телефон что-то повторял Саша Иннокентьев, но Лева не слышал — он вскинул руки, словно хотел освободить себе рот, горло, и, приседая, упал набок. Дальше смутно помнит — с него сняли шлем, били по щекам.
Когда Хрустова подхватили на руки, освободили от снаряжения и бегом, под полушубком, принесли в палатку обогрева — он, кажется, уже очнулся, был в сознании. Но обрушившийся стыд, мучительный стыд заставил сжать веки.
Без резиновой тесной одежды, но все еще в теплой шерсти, он лежал на каких-то комковатых тряпках и думал: «Только я мог попасть в такое нелепейшее положение. Скорей бы Васильев ушел — вскочу и убегу, пусть даже босой». Сапоги его остались забытые около полыньи, возле ведерка с ревущим желтым бензиновым костром.
Но люди из штаба не торопились уходить на мороз — разговор у них шел бесконечный. Сердечко у Хрустова забилось: «Значит, дырки забиты? Вода будет расти? Так чего ждем?!» Но чем дольше он лежал, тем более неловко было вдруг подняться и пойти. И Левка валялся с закрытыми глазами возле ног старших товарищей, на него не обращали внимания. Только когда сам Васильев нагнулся, даже вроде бы на колени встал рядом и, сопя носом, послушал работу сердца у потерявшего сознание, Лева хотел эффектно сесть и чихнуть. Но его бы не поняли. Самозванец — и еще шутки шутит.
— Эх, Вася!.. — пробормотал Альберт Алексеевич. — Но будем надеяться, товарищи.
«На что надеяться? И почему Вася? Он прекрасно понял, что я притворяюсь?»
Когда, наконец, руководители покинули палатку, и Помешалов за ними, и оба водолаза, и Туровский, потрогав пульс на руке Левы, поцокал языком и тоже вышел, Хрустов подумал: «А может быть, мне плохо? И я в самом деле помираю?! Я так изменился, Васильев меня не узнал?»
Открыл глаза — никого. Увидел чьи-то резиновые бахилы. «Надену. А кирзаки ребята домой принесут». Подошел к пологу, осторожно выглянул — возле проруби стоит толпа. Бегает, фотографируя водолазов, Владик. Они держат на поднятых руках шлемы и хохочут… «Надо мной?»
А это что?! По серозеленому льду прямо к палатке идет Машка Узбекова с термосом и его сапогами. «Господи, тебе-то чего надо?! — взмолился Хрустов, готовый заплакать от досады и, уже не успевая выйти незамеченным, снова рухнул на брезентовый пол, зажмурил глаза. — Значит, все знают. Позор-то какой!.. А Тани нет. Хотя список добровольцев по радио с утра объявляли, этой змее все равно, жив я или меня осетры обкусывают… Теперь она дружит с пролетарским поэтом Бойцовым. Значит, это его стихи мы читали в „Саянской звезде“? Неплохие стишки, но не более того. Я и сам могу… если бы захотел…
Выхожу один я под дорогу,
В ледяную воду без звезды.
Ночь тиха, пустыня внемлет богу,
И ты, дура, не придешь сюды.
Конечно, „сюды“ это неправильно, а я, может, нарочно, чтобы посмешней! Ой, жестко здесь как! Поплюйте на меня звезды!»
Он слышал, как приближается Маша, семеня сапожками, чтобы не упасть на скользком, а сам продолжал думать, конечно, о Танечке, и совестно ему было, и больно. «Значит, судьба. Отхлестала, можно сказать, всенародно по щекам. Ну и гуд бай! Только Маша любит меня. Ку-ку, Машка, иди скорее! Дура — как раз для меня».
Зашелестел полог — видимо, вошла.
— Лёва, — стоя над ним, нежно прошептала она. — Лёвчик… Ой, ты умер? А-а-а!.. — Упала рядом и, переборов страх, приложилась ухом к груди Хрустова. «А лучше бы и вправду сейчас остановилось мое сердце, — подумал Лёва. — Как героя бы похоронили. Таня бы тоже, небось, заплакала».
— Ой, не слыхать… — прошептала Маша. — Лёвчик!.. Ой! Ой!..
— Ну чего тебе? — открыв глаза, грубо ответил Хрустов, и, оттолкнув ее, сел. — Чё орешь?
У Маши засветились глаза, она уронила термос.
— Ой, жив!.. ой, разбила!.. Тебе чаю горячего несла — разбила!.. Нет, цел! — Она отвернула колпачок, выдернула пробку — из зеркальной горловины шел пар. — Будешь?! Замерз, наверно?
Хрустов поднялся, содрал с себя, скалясь от раздраженного усилия, шерстяное водолазное белье, надел — при Маше — унижаться так унижаться — джинсы с трико внутри, свитер с ковбойкой внутри, а затем — чужие резиновые сапожищи, и строго посмотрел на нее:
— Издеваешься?! К-как может быть мне холодно, когда за меня волнуются?! К-когда мое имя на устах у тысяч! Беги к ним! — Он протянул руку к двери. — Они больше замерзли! Я меньше всех был сегодня в пучине, зато первый, как Гагарин… или Титов… — Лицо у него скривилось. — Ну, чего надо? Уходи!
— Лева?.. — Узбекова прикоснулась к его плечу. — Тебе плохо?
— Мне?! Ха-ха-ха! Я смеюсь!.. — И он бросился опрометью к выходу. На бегу накинул свою меховую куртку, уронил и поднял по очереди обе рукавицы, прошмыгнул под мощными ногами крана, мимо трансформаторных шкафов, каких-то ящиков, штабелей досок и железных листов, и когда уже добегал к автобусной остановке, увидел едущую за огромными БЕЛАЗами черную «Волгу» и в ней Васильева. Рядом с ним ерзала, улыбаясь, какая-то девушка, очень напоминавшая Таню.
«Теперь мне все женщины будут напоминать эту гадюку, — подумал с философским вздохом Хрустов. — Никак не может Таня быть знакомой с Васильевым». И снова стало ему обидно, что Васильев обозвал его Васей. И это несмотря на клятвенные заверения в дружбе в тот исторический вечер (после бильярда — на квартире у начальника стройки). «Нет любви на земле, — шептал себе Хрустов, продолжая стыдливый бег по стройке. — Но нет и дружбы!»
Ему встретился Серега.
— Ну, что, что? — закричал Хрустов, увидев его открытый рот и опережая в речи. — Почему не отдыхаешь?! Вечером нам снова в смену! — И как бы переняв у недавно погибшего Ивана Петровича роль наставника по отношению к Сереге, грозно оглядел парнишку. — Или уже с официанткой своей целовался? Пятна красные на щеках.
— Пятна?.. — Сергей смеясь тронул лицо. — Да это от мороза, Лев!
— Смотри у меня! Официантки все испорченные. Правда, их проверяют, моральный облик, все такое. Я тебе лучше другую подругу найду… чистую, верную… — Он что-то еще говорил, а перед глазами стояла сверкающая лиловая вода, которая в полынье завивалась воронкой и позванивала, казалась, о ледяные края. — Ну ладно! Кончаем баланду! Сарынь на кичку!
Пробежали вместе мимо родного блока. В это время из хобота бункера сыпался теплый жидкий бетон. Рабочие, подождав, обступили горку, принялись растаскивать ее с вибраторами, уминать сапогами. И Хрустов, гримасничая, как если бы он неслышно матерился, полез наверх — ругаться с машинистом крана.