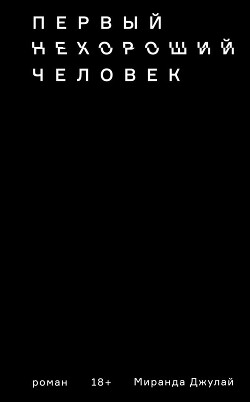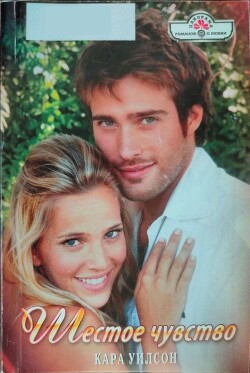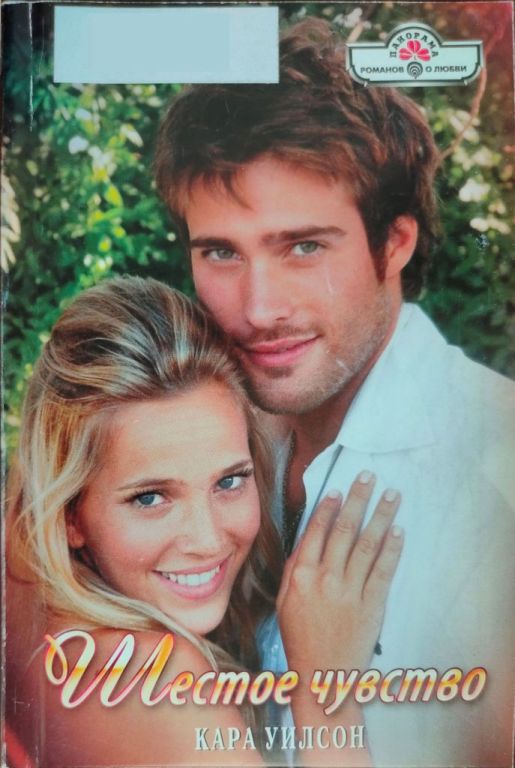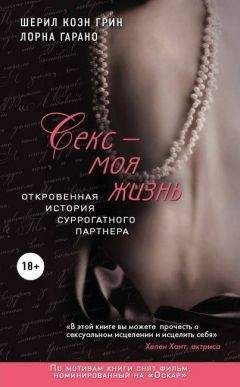Кэрол собрала лимоны с моего дерева и сделала у меня на кухне лимонад.
– Не обращайте на меня внимания, занимайтесь своими делами.
Я прошлась с Джеком по дому, называя ему имена предметов.
Диван.
Диван, – согласился он.
Книга.
Книга.
Лимон.
Лимон.
– Здесь так тихо, – сказала Кэрол, вытирая руки о мою посудную тряпицу.
– Я берегу покой – для ребенка.
– Вы с ним вообще разговариваете?
– Конечно, разговариваю.
– Хорошо, малышам это нужно.
Они оставили лимонад и пообещали вернуться в следующий четверг с кишем. Я заперла дверь. Разговариваю ли я с ним? Да только этим и занимаюсь! Уложила Джека на пеленальный столик.
Весь день напролет! Я десятки лет с ним разговариваю.
Ну вот, порядок, правда? Приятно быть чистеньким и сухим.
Ладно, конечно, я не ору ему, как железнодорожный кондуктор. Но мой внутренний голос гораздо громче, чем у большинства других людей. И он неумолчен.
А теперь натянем штанишки.
Думаю, не исключено, что кому-то извне могло бы показаться, что я все делаю в полной тишине.
Чик-чик-чик, вот. Все готово.
Я похлопала его по животу и заглянула в распахнутое лицо. Сокрушительная мысль: малыш Джек невинно живет в немом мире. Все слова, все нежности – он не слышал ни одной?
Я прокашлялась.
– Люблю тебя. – Он тряхнул головой от изумления. Голос у меня оказался тихим и официальным, вышло, как у деревянного папаши 1800-х. Я продолжила: – Ты моя сладкая картошечка. – Получалось дословно, будто я сообщала ему, что он – подземный овощ, корнеплод. – Ты – малыш, – добавила я на случай, если по предыдущему пункту возникло недоразумение.
Он вытянул шею, пытаясь понять, кто там. Конечно же, он слышал, как я разговариваю, но всегда с кем-то другим или же по телефону. Я уложила его на кровать и расцеловала в пухлые щеки, еще, еще. Он закрыл глаза, милостиво претерпевая.
– Не волнуйся, тут не я одна. Есть и другие люди.
Кто? – сказал он. Нет, не сказал. Он просто ждал, что́ случится дальше.
Сюзэнн, снимая обувь, салютовала, и это, видимо, означало, что я фашист, раз настаиваю, чтобы все разувались.
– Ты и другие японские ритуалы практикуешь или только этот? – спросил Карл.
– Только этот.
– Мы обыскались детского подарка, а в последний момент обнаружили совершенно невероятный магазин шляп, – сказал Карл, бродя по гостиной. – В смысле, эти шляпы – все равно что из музея какого, музея шутов. За них легко можно было бы просить сотни долларов, но большинство стоило двадцать долларов и дешевле.
– Но детских размеров у них не нашлось, – сказала Сюзэнн.
– Только универсальные размеры. Мы подумали, может, у него крупная голова… размер как у взрослого…
Джек застенчиво улыбался, а дедушка с бабушкой впервые на него смотрели, оценивая его череп.
– Слишком большая, – сказала Сюзэнн, вытаскивая трень-бренькавший шутовской колпак из сумочки. Джек ринулся к колпаку.
– Бубенчики, – объяснила я. – Звонкие бубенчики. Ты же никогда не видел бубенчики, правда? Ему очень нравится, спасибо. – Джек забыл о бубенчиках и попытался всунуть кулак мне в рот. Он стал это делать с тех пор, как я начала разговаривать с ним вслух. А еще он начал тискать страницы книг, трясти все, что гремело, складывать чашки в пирамидку, кататься по полу, жевать ноги игрушечного жирафа и умилительно тянуться ко мне с поскуливающим восторгом всякий раз, когда мы разлучались дольше, чем на несколько секунд. Или ничто из этого не было новью. Может, с тех пор, как пелена моего внутреннего диалога спала, я просто начала все это замечать гораздо острее. Он, казалось, все меньше походил на Кубелко Бонди и все больше на ребенка по имени Джек.
Сюзэнн улыбнулась и натянула шутовской колпак себе на голову.
– Ты ей сам скажешь, милый?
– Мы собираемся добавить к твоей следующей зарплате двадцать долларов, – объявил Карл. – Просим тебя обналичить эти деньги и положить в конвертик…
– Это фонд, – перебила Сюзэнн, позвякивая. – Чтобы когда-нибудь, когда голова у него вырастет достаточно большой, эти деньги его бы ждали.
– Мы решили, что так будет по-особенному, – сказал Карл. – Ты глянь на нее – милый маленький эльф, ни дать, ни взять?
Мы все уставились на Сюзэнн в колпаке. Если кто и выглядел, как маленький эльф, разве не ребенок? Но она похлопала ресницами и замахала руками в набухших венах, будто крылышками.
Я устроила им экскурсию по дому. В детской Карл прошептал что-то Сюзэнн на ухо, и Сюзэнн спросила, не Кли ли это была комната?
– Это был мой гладильный чулан. Кли поначалу спала на диване, а потом – у меня.
Они покосились друг на друга. Карл кашлянул и взял в руки игрушечного ягненка.
– Ягненок, – сказала я Джеку. – Дедушка держит твоего ягненка.
Обе неловко нахмурились. Сюзэнн легонько толкнула Карла в бок локтем.
– Мы рады, что ты об этом заикнулась, – сказал он.
Сюзэнн, зажмурившись, энергично закивала; Карл откашлялся.
– Джек, похоже, – интересный человек, и мы надеемся, что получим возможность его узнать. Но хотели бы, чтобы это случилось с его подачи.
Сюзэнн вклинилась:
– Есть ли у нас общие интересы и ценности? Любопытны ли мы ему и то, что нам дорого?
– Думаю, может быть, – отважилась я. – Поймем, когда он вырастет.
– Именно. А до той поры это навязанные отношения. – Пыл Сюзэнн зазвонил бубенцами у нее на колпаке. Джек взвизгнул – решил, что это самое потешное из всего, что до сих пор происходило. – Нам полагается играть роль «дедушки с бабушкой» [звяк-звяк], а он – изображать «внука» [звяк-звяк]. Это видится нам попросту пустым и условным, словно выдумки «Холлмарка»[27].
На словах про «Холлмарк» Карл хихикнул и потрепал Сюзэнн по загривку, далее продолжила она:
– Интересные молодые люди входят в нашу жизнь ежедневно, и мы их обожаем – они увлекательны, они задают вопросы. Может, когда-нибудь и Джек окажется кем-то из этих ребят.
– Мы даже, может, не будем знать, что это он, – пробормотал Карл.
– Мы не будем знать, он ли это, и он не будет знать, что это мы, – будем просто людьми, которые искренне нравятся друг другу.
Сюзэнн сложила колпак [звяк-звяк] и убрала его обратно в сумочку. Судя по всему, после того, как с этой речью разобрались, Сюзэнн стало легче.
– Хотите его подержать? – спросила я.
Ее руки легко обняли Джека. Он поглядел на нее, размышляя, вернутся ли бубенцы.
Глава пятнадцатая
Однажды в десять утра в пятницу раздался стук в дверь, и я подумала: Ну, поди знай, она, может, о нас не совсем забыла. Я вытерла Джеку нос и заправила волосы за уши. Пока шла к двери, сердце у меня разогналось. Рэчел с ней рассталась. Ей больше некуда податься. Я провела пальцами по губам – убедиться, что на них нет налета. Она теперь уже, вероятно, лесбиянка по полной программе. Если попытается поцеловать меня, я ее остановлю и скажу: Давай осмыслим это решение – что оно означает? Что мы этим решением сообщаем о том, что мы такие и кем хотим быть? Может, она теперь стала более вербальной – Рэчел могла в ней это проявить. Мне не терпелось поговорить с кем-то взрослым, вслух.
За дверью оказался рыжеголовый юноша с бейджем «Ралфза»: ДЭРРЕН. Мальчик-упаковщик.
– А Кли дома?
Джек попытался оторвать бейдж.
– Нет. Она здесь больше не живет.
– Правда? – Он заглянул в дом. Я шагнула в сторону, чтобы он мог убедиться, что ее нет.
– Мы тут одни.
Он осмотрел нас с Джеком, скользнув пальцем по белым макушкам многочисленных крошечных прыщей, решительно выступавших у него на подбородке и розовых щеках. Четвертое июля. Это он заставил Джека улыбнуться.
– Ладно, – сказал он. – Пока, Джек, пока, мама Джека. – Он метнулся с порога прочь, проскочил мимо телевизора на обочине. Я наблюдала, как он бежит по улице. Мама Джека. Никто никогда меня раньше так не называл. Но с точки зрения Джека никакой другой человек не был ему матерью в большей мере. Я глянула на его маленькую руку, столь уверенно державшую меня за плечо. Совершенно обыденное дело, однако я внезапно задохнулась, словно только что забралась на вершину чего-то очень высокого. Материнство. Он завозился; я ушла внутрь и дала ему пластиковую лопатку. Он жахнул ею по кухонному рабочему столу, шлеп-шлеп-шлеп. Я стояла, держа его теплое тело, разглядывая его сосредоточенное лицо. Слишком розовое, нужно больше антизагара. Шлеп-шлеп. И побольше ему читать – я читала, но не каждый вечер. И в реанимации мы проводили с ним всего по нескольку часов в день. Этого недостаточно. Для нас в то время – да, но теперь меня это не покидало. Он лежал там один по двадцать часов в сутки. Будут и другие непростительные преступления, я чувствовала, что они надвигаются – поступки, которые задним числом станут моими величайшими сожалениями. В любви я вечно наверстывала. До чего ужасно. Джек метнул лопатку на пол и заревел. Я подобрала ее – шлеп-шлеп. Он рассмеялся, я рассмеялась. Ужас. Я поцеловала его, он поцеловал меня в ответ – широко разинутым слюнявым ртом. Ужас.