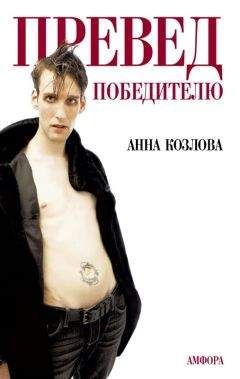Пумка зевнула.
В ее речи сразу же обнаружились некоторые досадные странности. Во-первых, словарный запас Пумки оказался очень скуден, но с обилием вводных конструкций, и Мише казалось, что он пытается разговорить умственно отсталого уголовника, а во-вторых, глаголы Пумка могла употреблять лишь в настоящем времени и начальной форме. Прошлого, даже случившегося десять минут назад, для нее не существовало, и все Мишины потуги обсудить с ней причину чудесного превращения оказывались бессмысленными.
Как, впрочем, и разработка общей тактики дальнейшего поведения.
— Не говори при маме, — убеждал Миша.
— Ее нет, — отвечала Пумка.
— Но она придет, она вернется с рынка!
— Нет ее, — тупо глядя по сторонам, повторяла кошка.
За завтраком Пумка сообщила, что видит усами, когда нет света. Миша тоскливо ел остывшую кашу. Также выяснилось, что всех жильцов дома она различает по шагам, а когда у человека появляется большое дергающееся пятно, ей хочется на него лечь. Тогда пятно слабее шевелится, а иногда и вовсе исчезает. Свои лапы Пумка на болгарский манер называла «краки», ей не нравился шум, и еще она считала, что за окном нет земли, а только воздух и птицы.
При всей явной неадекватности своих суждений Пумка считала себя персонажем неглупым и уж определенно более перспективным, чем Миша и его родители. Попытки объяснить ей действительное положение дел в мире наталкивались на враждебное недоверие. Пумка полагала, что это она должна учить и объяснять, но никак не Миша. Отца она вдобавок к прочим постоянно в его адрес изливаемым оскорблениям считала глухим.
Пумка находилась в постоянной негативной тревоге. Ей мнилось, что кто-то может проникнуть в их квартиру, чтобы причинить ей боль и разные другие неприятности. Сколько ни старался Миша доказать, что посторонние люди если и врываются в квартиры, то за имуществом, а не для того, чтобы мучить кошек, — она не желала ничего слушать.
Миша спрятал кошку в шкаф. Вскоре вернулась с рынка мать — ей предстояло испечь пирог и наварить холодца. По договоренности салаты резала Аня Самыкина. Миша пошатался вокруг матери, пока она не наорала, что он мешает и лучше бы пошел почитал книжку.
Обиженный, он прикрыл дверь своей комнаты, залез в шкаф.
— Пумка, — спросил Миша, — а ты помнишь свою маму?
Его ожидал новый удар. Пумка слегка насмешливо сообщила, что никакой мамы у нее нет и, очевидно, никогда не было.
— Ты родилась в подвале, а потом тебя принесли сюда, — сказал Миша.
— Я здесь всегда, — ответила Пумка.
Еще она не верила в смерть и во время. Смена света и темноты за окном представлялась ей пустой прихотью природы, чем-то настолько мелким, о чем не стоит и задумываться. Свое присутствие в Мишиной квартире Пумка считала априорной данностью, и никакие силы, с ее точки зрения, не могли тут ничего изменить.
Вечером, когда по комнатам плыл жирный запах свиного холодца, мать надела тесную блузку желткового цвета и коричневые брюки. Встречали год Деревянного Петуха, и мать была намерена соответствовать древесной гамме. Впрочем, безотносительно к присутствию желтого и коричневого в одежде, она приобрела какую-то самостоятельную деревянность. Руки свисали, как тонкие ветки в безветренный день, ноги словно вросли в белорусские туфли, которым предстояло бежать по снегу до Ани Самыкиной, выражение лица напоминало открытый шкаф.
— До часу, договорились? — спросил отец, уверенно поднимая эмалированные судки с холодцом, завернутые в детские одеяльца.
Миша кивнул. Пумка спала на батарее.
У Самыкиных парила газовая плита, окна запотели. Аня дожаривала картошку в толстодонной чугунной сковороде. Саша сначала жался, а потом, осознав, видимо, что общества, достойнее Мишиного, ему в этот праздник не светит, показал детали разобранного магнитофона и зеленый предмет, который выдавал за снаряд Великой Отечественной войны.
Покончив с картошкой, вдова удалилась в ванную, чтобы прихорошиться голубыми тенями. Она то ли не выказывала почтения деревянному петуху, то ли заранее знала, что, сколько ни почитай, все равно следующий год будет таким же, как уходящий, — хорошо, если не хуже. В своем дешевеньком голубом костюме Аня напоминала американскую продавщицу косметики.
За стол сели в десять. Провожали старый год, ели… Миша отметил, что из самыкинских окон елка не видна. Еда была жирная и тяжкая, словно по случаю праздника в каждое блюдо бросили пачку маргарина.
Отец, кирпичный от водки и как будто подернувшийся пленкой, рассказывал, какие сюрпризы готовит завтрашнее празднование Нового года в офицерском клубе. Женщины смеялись — по популярности с отцом в тот вечер мог сравниться только телевизор.
В двенадцать Мише и Саше налили шампанского, все чокнулись, поцеловались, прокричали «Ура!». Без десяти час Миша оделся, чтобы идти через двор домой. Ключ всегда висел у него на шнурке под рубашкой. Сашу Самыкина тоже отправили спать — родители и Аня собирались идти еще к кому-то в гости или даже в несколько гостей.
Во дворе было тихо, никто не кричал «Ура!», не взрывались петарды. Миша пошел наискосок, через сугробы, к клумбе, где стояла опутанная потухшими гирляндами елка. Высокая, с оборчатым низом, она была похожа на замысловатое женское платье. Она излучала столь гордую красоту, что Мише на секунду стало жаль елку, жаль ее обрубленной ножки и поломанных солдатней веток. Но тут же он со злостью подумал, что дай этой елке слово, и она окатит дремучей глупостью, самодовольством, презрением… Миша осторожно снял с еловой лапы обмерзлое, твердое яблоко. А яблоко это, что оно может сказать?
Мише стало как-то спокойно и страшно от мысли, что, возможно, нет никакого цельного мира, а есть мирки, обустраиваемые существами с убогой изобретательностью. И возможно, есть кто-то над человеком, кто-то обладающий большей правдой, и для этого кого-то Миша, стоящий у елки с яблоком в руке, так же беспомощен, смешон и самонадеянно упрям, как для него самого говорящая Пумка.
Яблоко вдруг ощутимо потеплело, оно наливалось не мертвой, морозной, а настоящей, спелой твердостью. В нем обнаружилась сила, как будто это было не яблоко вовсе, а искусно сотворенный робот. Яблоко слабо сияло, и Миша, зачем-то вытянув руку, ответил сиянию:
— Я… хочу… понять.
И в тот же миг плод начал тяжелеть и сморщиваться, отмороженная кожица вздыбливалась и отслаивалась, открывая привыкшим к темноте Мишиным глазам фруктовое мясо, овальные кости и то окончательное знание, которое семь лет назад привело на клумбу отца Саши Самыкина. Вдруг совсем рядом из темноты донесся пьяненький смех матери, чьи-то незнакомые голоса, и Миша с ужасом понял, что ни мать, ни эти другие никогда не смогут понять того, что только что понял он, а до него неизбежно понимал кто-то еще, и так до бесконечности. Яблоко стало темным, оно уменьшилось до размеров грецкого ореха, голоса приближались. Миша хотел, просил у издыхающего полуяблока-полуореха, чтобы для матери и отца, для Ани Самыкиной, старшего прапорщика Денисова, для Пумки и миллиардов всех остальных все всегда оставалось прежним…
Он успел спрятаться за елку, и хмельная компания проследовала мимо, на ходу отпивая из бутылки шампанское и постреливая снежками по деревьям.
Миша тихо открыл дверь, в прихожей уже поджидала, мурлыкая, Пумка. Миша вспомнил, что всех жильцов дома она различает по шагам.
Деревня Шенау в Швейцарских Альпах — прекрасное место для уединения. Эдакий тихий уголок, навевающий тоску и смутные воспоминания о Феокрите. Вокруг горы — по утрам снег на вершинах искрится и слепит глаза. Внизу — изумрудные луга, пастбища, где коров пасут поистине аркадские пастушки. Солнце светит здесь круглый год. Свежий высокогорный воздух приятно обжигает ноздри. Из каждого угла несет лавандой. Повсюду виднеются полевые цветы, склонившие пышные венчики под тяжестью шмелей или жуков, закованных в золотые панцири.
Мы последний раз путешествовали втроем.
Я, Сельвин и Салтана.
Перед отъездом в Швейцарию она оставила своему давнему фавориту (у него была странная фамилия фон Шницкий) патетическую записку, в которой сквозь бред и блажь прорывалось невнятное желание расстаться. Я знал, что подобные записки фон Шницкий получает так же часто, как изменяет Салтане. Но Сельвин был странно воодушевлен, узнав о мнимом разрыве. Подарил Салтане сто сорок лилий и, видимо, надеялся наконец воссоединиться с ней. В поезде Салтана плакала. Театрально куталась в меховую накидку. Наотрез отказывалась есть и пару раз даже пыталась выброситься на рельсы.
Сельвин нависал над ней, как туча над городом. Увещевал и уговаривал. Покупал конфеты и засахаренный миндаль, который Салтана презрительно топтала каблуками. Я посоветовал ему оставить ее в покое. Салтана углубилась в чтение Захер-Мазоха, мы пили шампанское. Время от времени она поднимала глаза с рыжими ресницами, окидывала почему-то меня таинственным взором. Может, входила в роль своенравной Венеры в мехах?