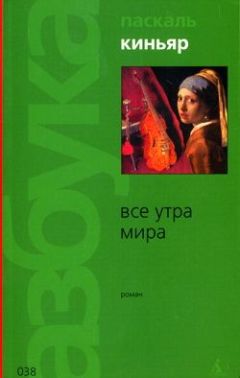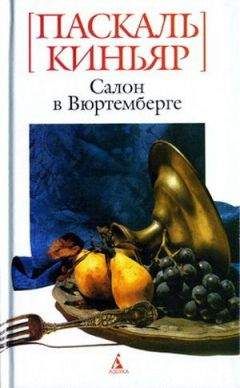Эта расщелина приоткрытой книги. <…>
Неожиданно налетает затерянное в душе чувство — а за ним ошеломляющая разрядка. Внезапная, экстатическая ясность. Двое, слившиеся в объятиях, гетерогенны, и все, что до этого было рассеяно или отталкивалось, тянется друг к другу словно намагниченное.
Оба вышли из себя. Выход из себя по-гречески называется ekstasis, по-латыни — existentia. То, что двое разделили между собой, — не объятие, не оргазм, не размножение, весьма гипотетическое и, скорее всего, незамеченное, а экстаз. Экстаз гораздо важнее наслаждения.
Вместе выходят из этого мира те, кто любит друг друга. Эти двое ходят вместе. Вдвоем — вместе. С тем же успехом можно так сказать о читателе и писателе.
*
Изойти и впасть в экстаз — это одно и то же. Это суть тайной жизни.
*
Аргумент IV. Сообщить тайну — это значит отодвинуть засов, на который заперто сообщничество (тайны другого, alter, принимающей облик тайны соития). Сообщничество — это место, где хранится нагота другого. Это древнее хранилище не разделяет endo (близость позади глаз) и exo (близость впереди живота). Обе эти тайны может сглазить магия (и тогда наступит половое бессилие или духовное изнеможение).
Акт соития — это ключ. (То, что отмыкает тело, отмыкает душу. Полная откровенность — это подоплека соития.)
Следствие. Мужчина никогда не должен доверяться женщине, которая не отдалась ему в своей наготе. Женщина никогда не должна доверяться мужчине, который не отдался ей в своей наготе.
*
Это следствие точно совпадает со словами Цирцеи Улиссу. И соответствует тому, что в конечном счете Улиссу говорит Пенелопа.
Любовь узнается по тому, готовы ли влюбленные пожертвовать стыдливостью: каждый выставляет напоказ свои половые органы, осмеливается на бесстыдные действия, подчиняется непристойным прикосновениям. Это шаг за грань жертвы. Сожительство по данному Цирцеей определению толкает два пола к бесстыдству (обрекает на привыкание к бесстыдству).
Любовь узнается по тому, готовы ли влюбленные пожертвовать неприкосновенностью тела.
Она приносит в жертву покров, положение, род. Это принесение в жертву тайны тела. Обнажение вызывает чувство неловкости и утраты.
*
Сексуальное изучение тела возлюбленного ведет к покорению огромного мира, живущего напряженной жизнью. Нет в живом мире возбуждения, которое не вовлекло бы в возбуждение живой мир. Только некрофилы, почти трупы, завороженные, неспособные удивляться, наблюдают пассивно. Дети встают и подражают. Цветам нравится, чтобы на них смотрели. Солнце обожает ослеплять, чтобы любили его свет и его само (фотосинтез представляет собой яркий пример нарциссизма). Латук, руккола, салат-ромэн, шпинат и кресс-салат — все это его амурчики, его путти.
*
Связь между любовью и соитием очевиднее, чем между копуляцией и размножением.
По правде говоря, размножения не существует. Равенство между зачатием и соединением двух половых клеток не может служить определением любви.
Соитие изолировано во времени. Ни предвосхищение зачатия, ни то, что соитие предшествовало родам, не имеет ничего общего с плотским влечением и удовлетворенным сладострастием.
Связь между рождением и объятием ненадежна. Она недавняя. На протяжении тысячелетий о ней, возможно, не имели понятия. И даже если знали, то часто предпочитали ее не признавать. Она всегда или вывод, или логическое обоснование. Это всегда «будущее в прошедшем»: беременность и роды скажут о соитии.
Объятие не может ощущаться как неплодотворное. Его нельзя воспринимать как мертворожденного.
У всех животных, включая людей, не размножение толкает самцов и самок громоздиться друг на друга.
Долгое время ни роды, ни весна не были последствиями.
Они были самим временем. Первым временем времени. Primus tempus. Единственным временем.
*
Именно весна лежит в основе пятого аргумента. Соитие влечет за собой: 1) тургор пениса (метаморфозу чаровника); 2) ускорение двух несинхронных ритмов (сердце и дыхание), которое его сопровождает.
Этот тургор и это ускорение стремятся к синхронизации, а потому вводят в состояние, чреватое будущим, полное отзвуков будущего. Это ликование неотвратимости. Это движение, направленное на поиск синхронности, устремленное к объятию, которое само себя подстегивает и заводит, — назовем его стремительностью. Мы можем избавить стремительность от ее отрицательной репутации. Не эякуляция преждевременна. Преждевременна радость. Всякий оргазм — это внезапно настигающая неотвратимость. Наслаждение всегда вырывают силой.
Жадный захват: хриплое дыхание, кружение крови в венах, пот, слюна, руки и ноги, сокращение женской вульвы.
Этот тургор-ускорение надламывается на самом своем подъеме в один миг.
Одним-единственным «вдруг», которое, на мой взгляд, олицетворяет всю внезапность на свете. Это Exaiphnes[141] последних древнегреческих метафизиков. (Эта внезапность резче всего настоящего. Именно она вдруг захватывает врасплох настоящий момент.)
Это «вдруг», свойственное латинскому «coit».
*
Человеческое «хождение вместе» (со-итие) характеризуется внезапно ломающимся, экстатическим ритмом. (Это особенно важно для музыки, которой он придает нечто дикое, нечто нечеловеческое.)
1. Тургор. 2. Ускорение двух ритмов, непроизвольно захватывающих человека. 3. Стремительность объятия. 4. Неотвратимость, внезапно настигающая врасплох. 5. Резкое впадение в телесную неподвижность, в физическое полузабытье (в отдохновенные полуявь или полусон).
(Пункты 4 и 5 имеют также значение для нереалистических фигуративных изображений античных фресок: на них показано мгновение до неподвижности, акме, цветок, augmentum[142], это максимум желания, проявленного перед внезапностью или смертью.)
*
Любовь сопряжена с тайной, потому что добавляет ко всякой тайне загадку половых различий, которая пронизывает всю нашу жизнь. Любить — значит отступить за границы своего нарциссизма; это значит стать чужим самому себе; это изойти, вырваться из своего пола и из своего «я». Это исход, свойственный человеку.
Это сношение, более стремительное, чем раскат грома, или молния, или поток, или стрела охотника (Эроса), или пикирующий полет грифа (Зевс), втайне связано с оргазмом, а оргазм неизбежно подчинен детородным органам — во имя размножения.
*
Что есть символ? Два кусочка четырехугольной таблички, которую кто-то разломил, чтобы половину отдать другу. Это способ признания в philia.
При следующей встрече два кусочка совпадали, потому что они были те же самые.
Каждый фрагмент разломанной таблички вписывался в выемки другого фрагмента.
Но половые различия не являются символическими.
*
То, что одна рука сжимает другую, стало необыкновенным человеческим изобретением.
Это изобретение символа. (Изобретение лжи.)
Всякая печать, всякая символизация берут начало в объятии соития лицом к лицу. Для symbola это зазубрины разбитых горшков, смыкающиеся в единое целое. Для запечатывания, вмуровывания (как для рукопожатия) это ладонь и стена, которые плотно соприкасаются по всей своей поверхности. Для акта человеческой любви, совершаемого лицом к лицу, объятие — это впечатывание.
Стяжение тел.
*
Совокупление лицом к лицу началось с ракообразных. Не знаю, было ли это хорошим решением.
*
Одно из самых древних стихотворений, возникшее на устах человека в этом мире, сочиненное на шумерском языке, сравнивает человеческое соитие с исступлением, охватывающим терпящих бедствие, когда лодка идет ко дну во время шторма.
Руки хватаются за обломки судна.
Они цепляются, чтобы их не поглотило слияние, ностальгия по которому осталась у них с рождения. И эта ностальгия давит на них, точно море.
*
Самый, на мой взгляд, чудесный момент итальянского Возрождения — это когда Поджо обнаруживает экземпляр поэмы Лукреция.
При жизни Лукреций был безвестным.
И после смерти остался безвестным.
Эта утрата не нанесла ущерба просвещенному миру. О Лукреции упоминала единственная строчка Цицерона. И все. Республика презирала его, империя не знала. Средние века не имели даже возможности сожалеть о том, что не сохранилось ничего от этого автора, потому что едва подозревали о его существовании.
В описании Лукрецием человеческого соития есть нечто шумерское. Оно поразительно по своей жестокости. Объятие описано как отчаяние. Джордано Бруно вдохновился им и изобразил его еще отвратительнее, а его гомосексуализм еще добавил изображению пуританский блеск. Шопенгауэр использовал это описание в своем труде «Мир как воля и представление».