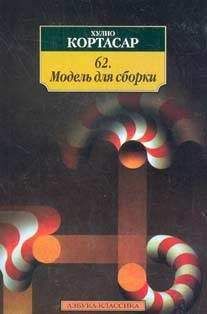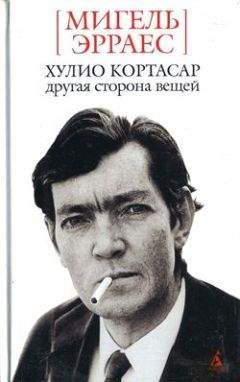– Этой статуе не хватает жизни, – настаивала Теяль, хранившая верность бронзовой русалочке, – и пусть Верцингеториг похож на гориллу, которая поднимает фисгармонию, ты меня не переубедишь. Не думай, что я не сказала этого Маррасту, и он в душе был со мной почти согласен, хотя единственное, что его интересовало, – это известия от Николь, кроме того, он, кажется, совсем засыпал от речей.
– Бедный Марраст, – сказал Хуан, усаживаясь рядом с Телль на скамейку, где прежде сидели Селия и Остин, – представляю его там, в зале, в окружении эдилов и лепнины, что одно и то же, сидит разнесчастный и жует остывшие бараньи котлеты, как обычно на таких ужинах, и думает о нас, которым так славно здесь, на этих скамейках из натуральной сосны.
– Столько сочувствия Маррасту, – сказала Телль, – а для меня ни словечка доброго. Подумайте, я же день и ночь воевала в Лондоне, чтобы спасти эту дуреху, и не успела сюда приехать, как должна выносить его приставания – он, видите ли, никак не может понять, сто раз спросил меня, приехала ли Николь на открытие добровольно или потому, что я ей навязала свой динамизм, клянусь, так он выразился, бедняга помирал от желания подойти к нам, но его окружали эдилы, а Николь была в толпе где-то сзади – представляешь сценку?
– Не понимаю, зачем тебе понадобилось ее привозить, – сказал Хуан.
– Она настаивала, сказала, что хочет издали взглянуть на Марраста, причем сказала так, что это прозвучало… Право, – добавила Телль со зловещим вздохом, – сегодня все здесь глядят друг на друга с таким видом, что в Копенгагене этого бы не понял сам Сёрен Кьеркегор. И ты, и вон ты…
– Глаза – это у многих из нас единственные оставшиеся руки, милочка, – сказал Хуан. – Не старайся слишком много понимать, не то лимонад тебе повредит.
– Понимать, понимать… А ты-то понимаешь, что ли?
– Не знаю, возможно, что нет. Во всяком случае, мне это уже ни к чему.
– Ты спал с ней, ведь правда?
– Да, – сказал Хуан.
– А теперь?
– Мы с тобой, кажется, говорили о глазах?
– Ну да, но ты сказал, что глаза – это руки.
– Пожалуйста, – сказал Хуан, гладя ее по голове. – В другой раз, только не теперь. For old time’s sake, my dear [100].
– Ну, конечно, Хуан, прости, – сказала Телль.
Хуан еще раз погладил ее по голове – это он тоже по-своему просил у нее прощения. Несколько незнакомых пассажиров вышли на станции, скудно освещенной желтыми фонарями, разбросанными среди деревьев, навесов и железнодорожных платформ, в их свете лица и предметы там, снаружи, были полны уныния, но вот поезд после хриплого и вроде бы ненужного свистка стал медленно отъезжать и снова углубился в полумрак, который вдруг прорезали кирпичные трубы, дерево, уже почти скрытое темнотой, или другая, плохо освещенная станция, где поезд останавливался попусту, потому что больше никто не садился, по крайней мере в тот вагон, где осталась наша маленькая компания: Элен, и Николь, и Сухой Листик, и Освальд, и Телль, и Хуан, и Поланко, и Калак – все те же, кроме Марраста, который, сидя среди эдилов, воображал себе этот вагон, мысленно вызвал его образ в разгаре банкета и словно ехал в Париж вместе с дикарями, подобно тому как днем, на открытии памятника, он как бы мысленно вызвал присутствие Николь на площади, Николь с сомнамбулическим лицом выздоравливающей, которая впервые выходит на солнце об руку с дипломированной медсестрой нордического типа, но нет, то был не вымысел, недовольная, ты действительно стояла там в последних рядах, стало быть, ты приехала посмотреть на открытие моей статуи, ты приехала, да, приехала, недовольная, и, кажется, в какое-то мгновение ты мне улыбнулась ободряюще, как улыбнулась и Элен, чтобы хоть на миг избавить меня от эдилов и от представителя общества историков, который сейчас готовится, будь он неладен, прославить память Верцингеторига, а слева стоял Остин, мой экс-ученик, бравший уроки французского, этот, конечно, не смотрел на меня, потому что так полагается вести себя джентльмену, и я себя спрашивал /Дамы и господа! Ход истории…/ может быть, это тоже ход истории, может, начавшись у красных домов или у стебля некоего растения в руке британского врача, все пришло закономерно к тому, что меня окружает, к присутствию здесь недовольной /Еще Мишле заметил…/ и к тому, что во всем этом нет ни малейшего смысла, разве что смысл этот спрятан так, что я не способен его уловить, точно так же, как почтенный оратор не способен уловить смысл моей статуи /Цезарь подвергнет героя унижению, прикажет вести его в цепях в Рим, бросит в темницу и затем велит обезглавить… / и не может понять, что глыба, которую моя статуя держит в поднятых руках, – это ее собственная голова, отрубленная и гигантски увеличенная историей, это два тысячелетия школьных сочинений и повод для напыщенных речей, и тогда, недовольная, личико мое сахарное, что оставалось мне тогда, как не смотреть на тебя издали, как смотрел я на тебя, стоявшую с дикарями, и начхать на ход истории, на лютниста, и на то, что ты сделала глупость, недовольная, на все начхать, и так почти до конца торжества, когда ты обернулась – ты должна была под конец это сделать, чтобы возвратить меня к действительности и к этому мрачному банкету, именно под конец ты и должна была обернуться, чтобы посмотреть на затерянного в толпе Хуана, показать мне его, как историк показывал ход истории и то, как стебель мало-помалу никнет в руке, получившей его, чтобы держать его всегда зеленым, и прямым, и гермодактилусом во веки веков. (Аплодисменты.)
Кто-то слегка тронул его плечо, официант сообщил, что ему звонят из Парижа. Это немыслимо, повторял себе Марраст, идя вслед за официантом в служебную комнату, нет, не могло быть, чтобы на другом конце провода его ждал голос Николь. И впрямь не могло, как совершенно четко выяснилось из того факта, что голос принадлежал Поланко, да к тому же говорил он не из Парижа, а из телефонной будки на пригородной станции с двойным названием, которое Поланко не запомнил, а также не запомнили мой сосед, и Калак, и Телль, видимо тоже втиснувшиеся в будку.
– Слушай, мы подумали, что ты уже сыт по горло речами, и звоним тебе, что не худо бы нам встретиться и выпить глоток вина, – сказал Поланко. – Жизнь – это не только статуя, ты меня понял?
– Еще бы не понял, – сказал Марраст.
– Тогда валяйте сюда, дон, и мы тебя ждем, чтобы сыграть в карты или еще чем поразвлечься.
– Согласен, – с готовностью сказал Марраст, – но чего я не понимаю, так это почему вы звоните с какой-то станции. Ты сказал, Освальд? Передай лучше трубку моему соседу, может, тогда я что-нибудь пойму.
В конце концов мы ему растолковали, но времени на это ушло много, потому что слышимость была неважная, к тому же пришлось рассказать предысторию, начиная с пари между соседом Поланко и с замечательного достижения Освальда, который явно должен был победить и преодолел, даже не глядя, черноватое пятно, последнюю надежду Поланко, и до появления типа в форме, который обрушился на нас с грозным выражением лица, очень напоминавшим оскал трупа, и стал требовать, чтобы мы выбросили Освальда в окно под страхом немедленного изгнания из вагона.
– Господин инспектор, – сказал Калак, в подобных случаях всегда вылезавший не вовремя, хотя до той минуты он, казалось, был поглощен своими записями в тетради, – то, что эта игра вполне невинна, не требует доказательств.
– Вы имеете к этому какое-то отношение? – спросил инспектор.
Калак ответил, что нет, но, поскольку Освальд пока еще не в состоянии овладеть французским языком, он считает уместным объявить себя его официальным представителем, дабы уверить в том, что его пробег по спинке скамьи – дело совершенно безобидное.
– Либо эта тварь отправится сейчас же в окно, либо вы трое сойдете на следующей станции, – сказал инспектор, доставая узкую, продолговатую книжицу и не слишком чистым перстом указывая какой-то параграф. Мой сосед и Поланко наклонились, чтобы прочесть этот обвинительный параграф, изображая необычайную заинтересованность, которая должна была скрыть приступ смеха, и ознакомились с похвальной заботой властей о соблюдения гигиены в вагонах. Сам понимаешь, мы сразу же объяснили этому типу, что Освальд куда чище, чем его сестра – сестра этого типа, разумеется, – и мой сосед предложил ему провести пальцем по следу и обнаружить хоть намек на слизь, что этот тип поостерегся сделать. Поезд между тем остановился на какой-то станции (мне кажется, Николь там вышла, на следующем пролете мы заметили, что ее уже нет в вагоне, возможно, она перешла в другой вагон, чтобы еще подремать, но я думаю, она просто вышла, последовав примеру Селии и лютниста, все вдруг стали романтиками, стали убегать любоваться на коров или собирать клевер), однако настоящая дискуссия еще не началась, и поезд отправился прежде, чем инспектору удалось решить альтернативу: Освальд – окно /мы – дверь. Ясное дело, выиграли мы от этого немного – задолго до прибытия на следующую станцию, вот эту, с двойным названием, инспектор подобрал нам три санитарно-гигиенические статьи и начал вести что-то вроде протокола в своем блокноте, в котором были наготове копирка да прикрепленный к корешку карандаш, довольно удобная вещь, если вдуматься, и тут мой сосед сообразил, что дело может кончиться грубым вмешательством жандарма, и, нежно подхватив Освальда, засунул его в клеточку, не преминув провозгласить моральным победителем гонок, что Поланко уже не отважился оспаривать – ведь было очевидно, что Освальду оставались до финиша всего каких-нибудь два сантиметра, а поезд еще не выбрался из диких зарослей. Уф! Вот так было дело, братец.