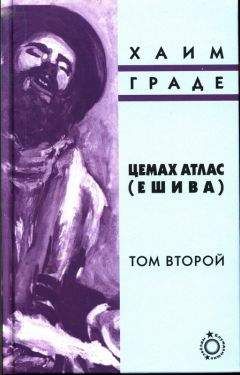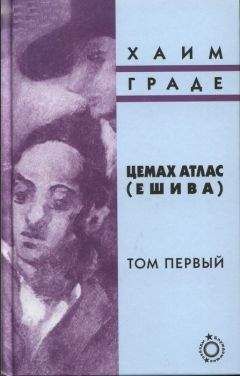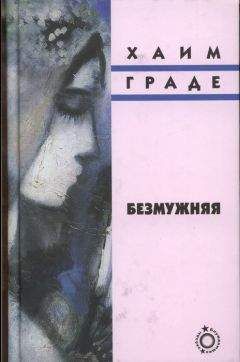— Так уходите из ешивы. Кто вас тут держит?! — воскликнул Хайкл и зашагал еще быстрее.
— Зайдите ко мне, и я вам расскажу, кто и что меня тут держит, — Мойше Хаят-логойчанин остановился около дома, в который вели узкие кривые ступеньки.
Хайкл пошел за ним, злой на самого себя. Глава ешивы и товарищи отвернулись от него, потому что встретили его с этим парнем, который в ешиве отступился от веры. А он всем назло сидел всю молитву с отступившим от веры и вышел тоже вместе с ним, чтобы показать, что его не трогает их отношение. Так ведут себя мальчишки из хейдера.
Мойше Хаят-логойчанин открыл дверь своей комнаты и сказал, что хозяева квартиры живут в другом конце коридора и что к тому же они старые и глухие. Поэтому у него можно разговаривать громко и даже кричать, сколько душе угодно. Они вошли в густую темноту, полную запаха плесени, как в подвале с подгнивающим старьем. Вдруг на потолке засветился красный глаз — маленькая электрическая лампочка.
— В Судный день вы зажигаете свет? Выпустите меня отсюда! — крикнул Хайкл.
— Забыл, совсем забыл! — схватился обеими руками за голову Мойше Хаят-логойчанин и даже попытался скрыть свою скользкую, комедиантскую улыбку. — С другой стороны, вы что, действительно верите, что адский огонь на том свете загорается из-за электрической лампочки на этом? Садитесь, виленчанин, — заговорил он покорно, но в то же самое время — поспешно, с жаром и с радостью забытого человека, вдруг увидевшего у себя нежданного гостя.
Комнатка была маленькой и тесной. У одной стены стояли небольшая железная кровать, застеленная потертым покрывалом, и старый, разваливающийся пузатый комод, заваленный потрепанными светскими книжками. Вся противоположная стена была занята большим платяным шкафом. Вплотную к единственному окну стоял маленький столик со стулом.
— Человек, оскверняющий святость Судного дня и все же приходящий каждый день есть на кухню ешивы! У такого человека нет стыда, и я бы не стал сидеть у вас ни минуты. Но я хочу услышать ваше объяснение тому, что вы не уходите из ешивы, — сказал Хайкл, усаживаясь на стул.
— Мне некуда идти, — устало и печально ответил Мойше Хаят-логойчанин, усаживаясь на кровать и становясь похожим на человека, пробегавшего весь день в поисках подаяния и вернувшегося вечером домой ни с чем. — Что мне, к двадцати двум годам идти учиться ремеслу? Я, может быть, и раньше этого не мог, я ведь сын логойского раввина. От своего отца я унаследовал склонность к спорам, а не сильные руки, пригодные для работы. Не только Цемах-ломжинец, но и мой дед, и отец тоже отравили мое сердце. В канун каждого новомесячья, справляя малый Судный день, мой дед, старый логойский раввин, бил себя в грудь, каясь в грехах и произнося великую исповедь учителя нашего Нисима[123]. Что уж говорить о большом Судном дне! Тогда мой дед старался отыскать у себя как можно больше грехов. Он верил, что согрешил по алфавиту и, каясь, бил себя в грудь по алфавиту: «Мы виновными были, изменяли, грабили…»[124] В своем завещании он написал, чтобы его после смерти проволокли по земле, подняли и бросили, положили ему камни на сердце, сожгли волосы на его груди, чтобы он подвергся всем видам казни, полагающимся по закону Талмуда. Точно так же, как дед, бил себя в грудь и мой отец, младший логойский раввин. Он тоже верил, что совершил самые тяжкие преступления. Они вбили мне в сердце и в мозг мысль о том, что я грешен.
— Вы бредите и болтаете глупости! — Хайкл повернулся на стуле и ощутил боль в животе. — С одной стороны, вы зажигаете огонь в святой день, а с другой — рассказываете о том, что чувствуете себя грешным, потому что ваши дед и отец каялись в грехах.
— Вот! Вот! Вот! — всхлипнул Мойше Хаят-логойчанин. Да, он оскверняет святость Судного дня и отрицает все — Новогрудок, Тору, даже Бога. Тем не менее он чувствует, что грешен. Часто он лежит здесь, в этой конуре на кровати, и мечтает обо всем, что нельзя делать. Вдруг он увидел здесь, в этой могиле, родителей и деда. «У тебя на уме пожрать и выпить, — кричит ему дед. — Для обжоры и пьяницы украсть тоже не проблема, лишь бы брюхо набить». А отец вздыхает: «Не думай, сын мой, о девушках, думай о том, чтобы быть богобоязненным евреем». А мама плачет: «Дитя мое, ты ведь лежишь с непокрытой головой!» Его сердце сжимается от жалости к родителям. Голова становится тяжелой, как камень, оттого, что он лежит на кровати без ермолки, волосы на теле колют его самого за то, что он ходит без арбеканфеса.
— От отца и деда я унаследовал склонность к покаянию. Бить они меня не били, это делал мой меламед. — Мойше Хаят-логойчанин скривил от отвращения лицо, как будто вспомнил о каких-то влажных, мягких, скользких тварях, заползавших на его голое тело. Он поднялся повыше на кровати, так, что его спина прикоснулась к стене, и стал рассказывать о логойском меламеде: — Это не был какой-то грязный еврейчик с нечесаной бородой, с медными ногтями резника и глазами ангела смерти. Он как раз был упитанный, расчесанный и в чистой одежде. Спокойный, с подкрашенными в черный цвет усами сладострастника. К тому же он был знаток Библии и древнееврейской грамматики. Если какой-то мальчик был в чем-то виноват, меламед не хватался за хворостину и не приказывал ему снять одежду. Напротив, он смотрел на ученика очень дружелюбно своими большими ясными глазами. Потом медленно разглаживал большим пальцем свои подкрашенные усы, еще медленней вынимал маленькую книжечку с жемчужным шнурком вместо закладки и остро отточенным карандашом записывал в книжечку меленьким аккуратным почерком, сколько розог причитается такому-то. Наказания он осуществлял по пятницам. Это было для него таким же удовольствием, как поход в баню. Он запирал дверь, занавешивал окна, и в комнате воцарялась тишина. Меламед произносил перед учениками речь, начинавшуюся стихом из соответствующего недельного раздела Торы и заканчивающуюся перечислением прегрешений каждого ученика. Только после этого он брался за работу. Порол он медленно, с заметным удовольствием, и при этом отсчитывал по-древнееврейски, как первосвященник во время служения в Храме: «Один и один, один и два…»[125] Он втягивал в это дело и мальчишек. Двое из них помогали ему, а потом сами получали свою порцию. Оказывается, что удовольствие от созерцания того, как порют других, иной раз больше, чем боль и стыд быть выпоротым. Родители не должны были об этом знать, и мальчишки хранили тайну. Оно того стоило. Они знали, что целую неделю можно шалить, шляться без дела, и лишь в пятницу задница получит заслуженное наказание от меламеда.
— Мораль, конечно, не во всех деталях соответствует притче. Мой меламед был сластолюбцем и спокойным садистом, а Цемах-ломжинец — садист яростный и горячий. Он избивал меня розгой своего мусара, а мои придурочные товарищи, те самые, которые теперь меня избегают, набожно кивали своими телячьими головами в знак того, что согласны. — Мойше Хаят посмотрел на дверь, как будто боялся, что кто-то может подслушивать. — Прежде чем Цемах-ломжинец вернулся в ешиву, он насытился всеми удовольствиями, в то время как моя светскость — деланая, моя наглость — показная. Я пытаюсь приблизиться к какой-нибудь девушке, и мне кажется, что она смеется надо мной. А может быть, она действительно смеется… Жажда совокупления мучит меня.
— Женись, — сказал ему Хайкл.
— Это не поможет, — отозвался логойчанин так, будто ему доставляло большое удовольствие, что он может отомстить себе самому. — Если я возьму жену и во время постельных дел не буду помышлять о святых заповедях; если соитие с женой будет происходить не в такой же святости и чистоте, как искренняя молитва «Шмоне эсре», а я буду стремиться доставить себе телесное наслаждение, — тогда мое семя будет гнилым, и мой будущий сын или дочь родится с кровью байстрюка. Осквернять святость Судного дня я не боюсь, отвергать самое главное я не боюсь (я говорю о Боге и о Его Мессии), я — бунтующий и подстрекающий, оскорбляющий и оскверняющий, я Иеровоам бен Неват, но жениться я боюсь. В меня вселились души мусарников всех поколений, и они кричат своим вечным криком; нельзя, нельзя! Потому-то я так ненавижу Новогрудок…
— Вы сумасшедший! Вы помешались на своей ненависти к Новогрудку! — воскликнул Хайкл, отодвигаясь от логойчанина так, будто из его карманов выпрыгивали жабы.
— Верно, я помешался на Новогрудке, — тихо и в то же время раздраженно рассмеялся Мойше Хаят. — Согласно книге «Шулхан орух», получается то же самое, что по книгам мусара: если всмотреться в суть любого закона, то ничего нельзя, если при этом нет стремления к святости. Каждое наслаждение — это запрет, это кусок свиного сала. Однако вам пока еще очень хорошо. Вы приезжаете в Нарев всего на какую-то пару недель, а потом убегаете домой. В Вильне вы живете на улице, расположенной рядом с мясными лавками. Так вы рассказывали в прошлом году. По вашему лицу можно даже увидеть, что вы живете на мясистой, полной радостей этого света улице и что эта улица живет в вас. Однако раньше или позже новогрудковское учение осядет и в вашем сердце, и в вашей жизни. Тогда мусарник, поселившийся в вас, закроет все кошерные мясные лавки, и в вас останутся только трефные мясные лавки. Вы будете испытывать наслаждение только от того, чего делать нельзя, потому что делать нельзя ничего. И тогда вы, как и я теперь, будете получать наслаждение только от греха…