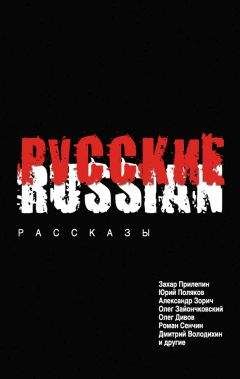— Я… я сам родом тоже, можно сказать, с Севера. Есть такой городок — Весьегонск. С трудной, трагической судьбой он. Впрочем, как и многие города и городочки по всей нашей стране родной, по всей нашей России… — Профессор говорил без микрофона и вроде бы тихо, задумчиво-грустно, но слова долетали, кажется, до самых последних рядов.
«Поставленный голос», — отметила Валентина Петровна.
— Н-да, давненько я не бывал на Севере, больше по Сибири меня носило, а с недавних пор — по заграницам. И… И когда вот Юрий Вадимович предложил поехать сюда, в город газовиков Пионерск, я, признаюсь… Признаюсь, согласился не сразу. Думал. Много ведь негатива о газовых, нефтяных компаниях нынче по телевизору, радио, в газетах пишут. Впечатление: только там и делают, что качают и качают из земли-матушки, кочуют вахтовые бригады от скважины к скважине. Думал увидеть я такое и здесь. Боялся увидеть, а потом в силу разных необходимостей лицемерить, стоять вот так перед вами. Но… — Профессор сделал паузу, развёл руки. — Но не придётся, чувствую, лицемерить. Даже то, что увидел я по пути от аэродрома до гостиницы, что услышал вот от Павла… — опустил глаза к столу, глянул, наверно, в заметки, — от Павла Дмитрича, такого молодого, энергичного такого директора, всё это, признаюсь, вселило в меня не то чтобы оптимизм… Оптимизм — плохое слово, слышу я за ним слово «отчаянность»… А вселилась в меня уверенность, что не хищники наши газовики, а — хозяева. Здесь их дом, здесь — смысл их жизни! И… и очень правильно Павел Дмитрич сказал: от церкви — да! — тем более от такой красавицы, как ваша, от неё запросто не уедешь, не прыгнешь запросто в самолёт и — вжи-ить…
Дружно, словно по команде, грохнули аплодисменты. Валентина Петровна тоже хлопала, радуясь и поражаясь тому, как преобразился этот тщедушный, похожий на бича человек. То ли из-за голоса, сильного, но и проникновенного, то ли из-за того, что стоял, выпятив грудь и приподняв подбородок, он казался теперь почти великаном, богатырём…
— Я… я работаю в Институте мировой литературы, — продолжил профессор, снова перейдя на грустноватую интонацию. — Моё пристрастие — советская поэзия двадцатых — тридцатых годов. Смеляков, Безыменский, Исаковский, Багрицкий… И конечно, Владимир Владимирович Маяковский. М-м… Был период, совсем недавно был, когда на меня смотрели как на прокажённого, а то и как на вражину какого-то. Ведь практически на всех поэтах той эпохи, поэтах, которых публиковали активно, кто, даже в лагерях посидев, был всё же в фаворе на слуху — на всех них был ярлык пишущих исключительно по соцзаказу… И на протяжении девяностых годов, миновавших, слава богу, их не публиковали, не переиздавали, на изучение творчества их не выделяли финансов. И не стану скрывать — огромного гражданского мужества мне и моим товарищам стоило не сдаться. На сегодняшний день удалось нам несколько изменить столь плачевную ситуацию, да и идеология государства нашего обозначилась…
При слове «идеология» в зале послышался лёгкий тревожный шелест, кто-то даже хмыкнул; Валентина Петровна обернулась, негодующе отыскивая источники шелеста. Профессор замахал рукой:
— Нет, нет, не пугайтесь! Без идеологии невозможно, друзья мои! Нельзя!.. Если живём мы в государстве, то, значит, мы — граждане. А если мы граждане того государства, где живём, значит, нас должно что-то объединять. Эта объединительная сила — именно идеология… Да, согласен, было всякое, идеологию превратили в дубину, и это-то и явилось первопричиной распада огромной нашей страны, не закончившейся и доныне смуты. Но понимаете, двадцатые — тридцатые годы тем и уникальны в истории литературы, что при очень сильном давлении сверху была и свобода. Свобода, присущая лишь молодости. Молодое государство, молодой строй, молодые люди. Точнее — молодой народ! И отсюда, естественно, молодая культура. Недаром всё-таки большинство поэтов, писателей, художников, скульпторов, архитекторов, встретивших революцию двадцатилетними, да и старше немного, её приняли, приняли с радостью. Это была их революция, и до конца жизни многие из них были заряжены запалом первых лет нового строя. Они создали величайшие созидательные произведения. Я подчёркиваю, друзья, созидательные! Да! — Профессор тряхнул головой, снова пожевал губы. — Видите ли, есть времена так называемого критического реализма, а есть — созидательного.
И сегодня тоже — на смену критике приходит созидание. Раскритиковали, развенчали всё что возможно, посмеялись и поплакали над всем, что произошло в нашей истории. Достаточно! Хватит! Теперь пора созидать. Одним — строить новое, а другим — вдохновлять их достойной песнью!
Не выдержав, Валентина Петровна ударила в ладони. Её поддержали. Хлопали минуты три.
— Спасибо, спасибо, — поблагодарил зал профессор. — М-да… Так вот… Я буду вместе с уважаемым Сергеем Львовичем Свербиным, — он указал на поэта-красавца, — первокласснейшим, кстати сказать, русским поэтом из поколения шестидесятников, поколения, перенявшего эстафету от тех, кто пришел в литературу вместе с революцией… Мы будем вместе вести семинар поэзии, и там я ещё скажу о созидании, там мы ещё с вами наговоримся… Но хочу, чтоб меня услышали и те, кто работает в прозе, в публицистике… Созидайте, друзья! Критики было уже сверх меры. С покрышкой! Теперь расскажите нам, читателям, как вы трудитесь, как отдыхаете, чем живёте здесь, на северах… Мхм… Я вот совершенно не знаю, как добывают газ, каким образом идёт он по трубам, и девяносто пять процентов россиян, зажигая газовую плиту, об этом не знают. Так расскажите. Напишите. Мы ждем, друзья!..
«Молодец! Молодчина!» — чуть не вслух повторяла про себя Валентина Петровна, еле сдерживаясь, чтоб не слишком выделять свои аплодисменты из аплодисментов сидевших рядом; ей хотелось вскочить и хлопать стоя, и было стыдно, что там, в аэропорту, и потом, вплоть до самой этой речи, относилась к профессору с неприязнью — не верила, что он, с такой-то внешностью, может принести пользу. А вот как получилось.
— Молодец!.. — тихо, счастливо приговаривала она, в то же время морщась от боли в отбитых ладонях.
Шумно переговариваясь друг с другом, люди повалили из зала. Валентина Петровна, взбодрённая, желающая действовать, поспешила за гендиректором, который, как всегда стремительно, шагал к выходу…
— Павел Дмитриевич! Подождите, пожалуйста!
Он резко остановился, развернулся. Заместители и телохранители, не успев сориентироваться, чуть не врезались в него.
— Звонили из «Коммерсанта»… — слегка запыхавшись, начала Валентина Петровна. — Просили о срочном телефонном интервью.
— Повод?
— По поводу внесения на рассмотрение… — Валентина Петровна раскрыла маленький органайзер, — внесения на рассмотрение Госдумой правительственного проекта закона об увеличении ставки налога на добычу полезных ископаемых.
— Угу… — Петров взглянул на своего первого зама, потом на зама по информационной политике. Оба утвердительно кивнули: нужно высказаться.
— Хорошо. Спасибо… Скажите, что в половине шестого буду ждать их звонка по основному служебному телефону.
И трое высоких, плотных мужчин в строгих костюмах, в сопровождении таких же статных охранников, направились к ждущим у входа машинам. Валентина Петровна стала набирать номер газеты «Коммерсант»…
— Справочная служба «Коммерсанта» слушает, — раздался нежный, не по-живому спокойный голосок молодой женщины.
— С Жанной Григорьевой… не знаю отчества, можно поговорить?
— Не отключайтесь, соединяю. — И в ухо полилась простенькая, но приятная мелодия.
— Извините, — подошёл профессор-литературовед; он снова был маленький, щупленький, лицо какое-то униженно-просительное, — я вот узнать хотел…
— Сейчас, сейчас… Михаил Аркадьевич.
— Нигде места для курения найти не могу, — будто не услышав, продолжал профессор. — И наши курильщики делись куда-то… В туалете знак запрета висит…
Мелодия в трубке смолкла, мужской голос рубанул:
— Вас слушают!
— Здравствуйте. С Жанной Григорьевой можно поговорить? — уже раздражаясь, сказала Валентина Петровна, чуть отворачиваясь от профессора.
— Минуту. — И снова та же мелодия.
«Да что ж это?! Лабиринт какой-то!» — вознегодовала Валентина Петровна, жалея своё именно сейчас драгоценное время, да и деньги, которые, хоть и казённые, летели с мобильного молнией…
— Валентина Д-дмитревна! — тоже чуть не вскричал профессор, — где у вас тут курят, скажите!
— Что? А… К сожалению, у нас во Дворце культуры не курят. На улице, налево от выхода. Там стрелка указана на стене…
— Да-а? — голос в трубке, знакомый своей томной тягучестью. — Жанна Григорьева слушает.
Валентина Петровна уже несколько раз беседовала с ней по телефону и всегда находила с трудом; слыша её голос, этой Жанны без отчества, ей представлялась румяная, добродушная пышка, гуляющая с чашкой жидкого чая по кабинетам редакции, болтающая с сослуживицами, и лишь минут двадцать из восьми часов уделяющая работе…