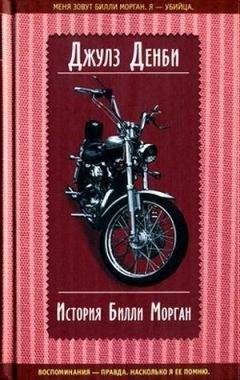Это пустяки, всего лишь клочок бумаги, подхваченный пыльным летним ветерком. Вы думаете, это стресс, вы думаете, это конец света; извините, но это просто смешно.
Я слышала истинную песнь Пана. Я чувствовала запах своего животного ужаса, что поднимался от моих подмышек, превращался в кислую желтую вонь; я слышала, как я визжала, словно животное, пока не почувствовала вкус крови в разорванной глотке. Я видела хитрый, косой бронзовый глаз божества, вытянутый зрачок, суженный от смеха, мерцающий в ночи, когда он играл и играл восходящую, закрученную импровизацию, все громче и громче; она безжалостно обрушилась, уничтожая все на своем пути; это было все равно что умереть и родиться заново, потому что от меня ничего не осталось. И ничего не осталось от моего бедного, милого Микки. А Пан смеялся, божество смеялось и уже подбрасывало свои проклятые кости для новой Игры.
Те из нас, живых, кто слышал эту ужасную музыку, скажут вам, что ничего невозможно поделать, даже самоубийство не спасет от этих звуков. Мы не похваляемся этим в пабах, мы не притворяемся какими-то особенными, мы не хнычем и не умоляем о сочувствии, мы просто об этом не говорим. Но другие чуют это в тебе, они чуют это, как животные чуют приближение волка прежде, чем увидят его. И они говорят, что вы «пугаете» и «подавляете», потому что не могут подобрать подходящих слов. Они боятся, но не знают почему, они не смогут объяснить почему.
Но я знаю почему: бог оставил на нас свою отметину, и они видят той частью своего мозга, о существовании которой давно забыли, тайный знак проклятия, написанного на мертвом языке. Люди чувствуют это, не понимая того, что чувствуют; у них встают дыбом волосы на загривке, они воздевают свои мягкие ручки, вздрагивают и говорят: «О, кто-то прошел по моей могиле», они и на секунду не задумываются, что это значит. А мы, Братство Пана, боремся, пытаясь найти смысл в нашей разрушенной жизни, зарываемся в то, что заставляет нас чувствовать себя в безопасности, и никогда, никогда не открывать дверь с изображением лица божества на ней, никогда больше не прикасаться к этой блестящей бронзовой ручке, сделанной в форме его Маски, никогда больше не смотреть в эти вырезанные глаза, эти горящие, бессмертные, ужасные глаза, что знают о тебе больше, чем ты можешь вынести.
Так что я остановилась на пороге, меня била дрожь, я боялась, что меня стошнит прямо в машине. Я отступила. У меня в самом деле нет слов, чтобы рассказать вам, сколько это отняло энергии и силы воли. Всего лишь мысленно проделать это, отвернуться, заткнуть уши, не поддаться отчаянному искушению этой убивающей душу музыки.
Дорога домой превратилась в расколотый калейдоскоп красок, гудящих и рассыпающихся за окном, я чуть не выскакивала из кожи, когда мне казалось, будто какой-нибудь дрожащий обрывок изображения вот-вот врежется в лобовое стекло. Нос был настолько забит, что я не могла им дышать, глаза воспалены, точно в них насыпали песка. Погода мрачнела и отсыревала, небо затянули плотные серные облака. Пот струился по спине, волосы прилипли ко лбу, напоминая, что нужно постричься – на этот раз очень коротко, очень коротко… Что-то закончилось, что-то начиналось, но я не понимала, что есть что.
Я так ужасно вела машину, что, въезжая на нашу улицу, чуть не раздавила Дарси, тупого терьера миссис Лич, который носился в поблекшей траве у кладбищенской стены, охотясь на воображаемых крыс. Я вышла, хлопнула дверцей и посмотрела на бедного дурачка. Он взвизгнул и бросился наутек. Если бы он умел говорить, я уверена, через минуту миссис Лич уже стучалась бы ко мне с лицом грозным, как дождевые тучи над нами. В такую погоду все становятся раздражительными, словно происходит электрическое замыкание в нервной системе.
Натти спал на диване.
Мартышка сидел на полу у изголовья, скрестив ноги, блаженная улыбка освещала его лицо; его сокровище вернулось к нему, его преданность вознаграждена, в его мире снова все прекрасно. На экране телевизора беззвучно шла «Книга джунглей», Балу переоделся обезьяной, Король Луи флиртовал, как он полагал, с обезьяньей красоткой.
Я прислонилась к дверному косяку, на меня нахлынула волна облегчения, смывая тревоги; все прочее уже не важно. Благодарю тебя, Боже, за то, что вернул моего мальчика домой целым и невредимым; древнейшие из молитв зазвучали у меня в голове, атавистически, рефлекторно. Я посмотрела на Мартышку: как он, должно быть, счастлив, как замечательно испытывать такое незамутненное счастье! Я вымученно улыбнулась ему, он энергично кивнул, подняв вверх большой палец. Я поманила его на кухню. Он направился ко мне, обернувшись пару раз, дабы убедиться, что его любовь все еще спит и не исчезнет снова в облаке дыма.
Он не мог дождаться, чтобы поделиться счастьем со мной, еще одним хранителем святыни.
– Как вы ушли, он тут и вернулся, мисс Билли. Он пришел, я ему сделал чаю, он выпил, съел шоколадку и теперь, типа, спит. Я ничё не сказал, как вы велели, я ничё не говорил, мисс, честно.
Он сиял. Для Мартышки это была невероятно длинная речь, но радость переполняла его. Я улыбнулась:
– Возвращайся в комнату, Ли, пусть он еще поспит, разберемся со всем позже. Ты молодец, милый, правда. Отлично сработано, Ли, ты хороший парень.
Я закрыла дверь в комнату и поставила чайник. И тут заметила джинсовую куртку Натти, валявшуюся на полу возле стола, где он, должно быть, ее бросил. Я наклонилась ее подобрать, и в этот миг из кармана донесся приглушенный звонок телефона. Я поспешно вытащила его и, поскольку он не был похож на мой, потыкала в пару кнопок, прежде чем попала в нужную.
– Алло? Алло? Это номер Натти Севейджа…
– Кто это? Ёбаная мамаша или ёбаный ангел-хранитель? А?
Голос был знакомый: Шармейн, девица из Лидса. Голос выдавал характерное амфетаминовое напряжение. Я не собиралась связываться с обдолбанной сучкой, нажравшейся «спида» из-за ссоры с любовником, не сейчас.
– Это Билли Морган, Шармейн. Ты ведь Шармейн, верно? Натти спит, я передам ему, чтобы он тебе перезвонил…
Ее визгливый смех походил на треск рвущейся дешевой ткани.
– Перезвонил мне? Это, блядь, вряд ли, ты старая ёбаная пизда! После того что он сделал, нет уж, блядь, спасибо. Вот почему я звоню ему. Скажи ему, что мои братья до него доберутся, они его разыщут и уделают, слышишь? Он правильно сделал, что свалил домой к мамочке и к тебе… Блядь… Он разнес мою квартиру, мудак, разнес ее всю и меня отделал, ты бы видела мое ебло, блядь, ты бы… Твой ёбаный чудо-мальчик…
– Достаточно. Я скажу ему, чтобы он тебе позвонил или что там, но…
– Но что? Но что? Ты такая же блядь, как его мамочка, а? Такая же, как она? Вам, блядь, должно быть стыдно, что он у вас такой…
Она бессвязно визжала в телефон, я так и видела ее, брызжущую загустевшей от «спидов» слюной, косички дергаются, руки трясутся. Я нажала на маленькую красную кнопочку, и Шармейн исчезла в пустоте. На всякий случай я выключила телефон. Я вполне понимала ее и не хотела знать, что Натти с ней сделал.
Потому что знала, что она не лжет. Я знала, что он ее избил. Да, я понимала, что когда-нибудь мне придется столкнуться с чем-то подобным. Его вспышки ярости были ужасающи и со временем стали повторяться все чаще. И кокс тут играл не последнюю роль, как и прочее дерьмо, которое он принимал. Они – наркотическое поколение, запрограммированное на невоздержанность; Натти гордился своим образом жизни. Что я могла ему сказать? Я, принимавшая все без разбору, я, сделавшая то, что я сделала? Ведь меня саму переполняла ярость? Так что я надеялась, вопреки всему, что, когда он вырастет, его приступы гнева останутся в прошлом, что это просто детские припадки раздражительности. Но он их не перерос, отнюдь. Он был как ртуть: вот сейчас он самый любящий, самый очаровательный, восхитительный парень на свете, а через секунду… Ярость вырывалась из него жестокой, бурлящей волной.
Но теперь это становилось проблемой. Разумеется, милая Шармейн тоже была той еще штучкой; могу себе представить, сколько кокса они в себя зарядили; неудивительно, что он полностью потерял контроль над собой. Но все же, какой бы мерзкой сукой она ни была, по моему мнению, ему нет оправдания: он, мужчина, ударил ее, девушку. Это неправильно. По любым меркам.
Я заварила чай и поднялась к себе в комнату. Выпила половину, затем быстро приняла душ, прокручивая в голове варианты решения проблем Натти, Джас, Мартышки и даже своих собственных, пока отмывала себя с головы до пят гелем с экстрактом чайного дерева. Затем надела старую джеллабу и приняла две таблетки «ибупрофена», запив их остывшим чаем. Письма отца рассыпались по розовому хлопковому покрывалу.
Эгоистично, эгоистично, – но эти письма и открытки были так важны для меня. Я не могла больше ничего поделать до утра, я даже не могла рассказать Натти о Джас или отругать его за его поведение, пока он не проснется, а вернувшись после тусовки, он мог проспать двадцать четыре часа. Такое уже случалось. У меня сжалось сердце. Я проглядела тебя, милый мальчик, верно? Я испортила тебе жизнь. О нет, не сейчас, не сейчас. Сейчас я хочу читать и перечитывать письма, касаться пальцами слов, искать то, что осталось от отца в этой слежавшейся хрупкой бумаге. На улице стемнело, в воздухе пахло надвигающейся бурей, я включила настольную лампу, Чингиз подагрически запрыгнул на постель. Он ненавидит гром и молнии, как и Ночь фейерверков.[64]