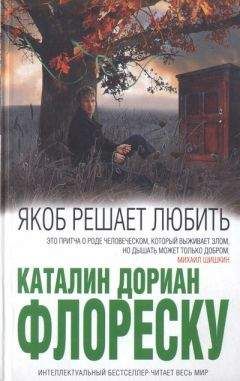Когда шаги и голоса стихли, я высунул голову и огляделся, ища возможности хоть немного утолить голод. Утолить, укротить голод — эта мысль придавала мне мужества. Но в поле зрения ничего подходящего не было — ни продуктового ларька, ни какой-нибудь задрипанной забегаловки, каких с избытком хватало в окрестностях Йозефсплац.
Решившись покинуть свое укрытие, я пошел налево, где, как мне казалось, был центр города. Я пытался придать себе безразличный и усталый вид — якобы я рабочий после смены или просто ночь не спал, — придумывал, что ответить, если меня остановят, и вздрагивал каждый раз, когда на меня кто-то смотрел.
Вообще-то я был беглым заключенным и уж точно не имел права свободно разгуливать по улицам города. Города, который принял меня в детстве и был добр ко мне, в котором река отказалась поглотить меня; теперь этот город стал мрачным и угрожающим, словно хотел напасть на меня, как бандит в темном переулке, и вырвать сердце. Я уже начал жалеть, что вернулся в Темешвар. Я снова чувствовал себя беззащитным, беспомощным, но теперь уже не из-за невыносимо пустынного простора, а из-за столь же невыносимой тесноты, из-за множества тел, что вставали у меня на пути со злобой и ехидством.
В каждом встречном я видел доносчика, хотя прохожие, наверное, боялись не меньше моего. Здесь каждый подозревал в доносительстве любого. Когда я не чувствовал на себе чужих взглядов, то сам присматривался к другим и был уверен, что едва ли хоть кто-то из них заслуживает доверия. Я понял, что люди в душе полностью переменились — на этот раз их охватил голод приспособленчества.
Наткнувшись на вывеску, указывающую на кабак во дворе, я вздохнул с облегчением. Кроме темной фигуры в углу зала и хозяина, там никого не было. Хозяин мыл посуду и, увидев меня, прищурился.
— Мы еще не скоро открываемся, — проворчал он.
— Мне очень нужно поесть.
— Судя по твоему виду, ты больше хочешь выпить.
Он вытер руки и вышел из-за стойки.
— Не похоже, чтобы у тебя были деньги на еду.
— У меня вообще нет денег.
В тот же миг его рука рванулась ко мне и попыталась взять за шкирку. Я увернулся и поймал его запястье.
— Я прошу только кусок хлеба — и сразу уйду.
Тогда кабатчик попробовал прихватить меня другой рукой, но тут в зале раздался тихий свист. Звук был едва слышный, но высокий и ясный. И рука обидчика замерла в воздухе. Хозяин растерянно взглянул на тень в углу, и, обернувшись вслед за ним, я разглядел мужчину лет тридцати — он чуть подвинулся к свету, чтобы его было видно. Его руки спокойно лежали на столе, стоявшем вплотную к скамье.
— Виорель, человек голоден. Почему ты хочешь вышвырнуть его? Тебе что, никогда не приходилось голодать? — спросил гость. — Мне-то приходилось, и это, скажу тебе, не самое приятное ощущение. Поэтому, Виорель, если мне кто-то говорит, что голоден, я даю ему поесть. Советую и тебе поступать так же, особенно когда я плачу. Принеси ему и того пойла, что ты называешь кофе. Давай садись рядом со мной, — пригласил он меня.
Кабатчик принялся за работу. Я подавил в себе первое желание унести ноги. Второе было сильнее — поесть, чтобы перестала кружиться голова. Я сел за стол рядом с благодетелем, и ему пришлось подвинуться. На секунду мне показалось, что с его телом что-то не так. Он чуть не упал, но все-таки удержался, упершись руками в лавку. Я вцепился в край стола, пытаясь унять дрожь в руках.
— Можешь не трястись. Теперь Виорель тебе ничего не сделает, — сказал он.
— Это от голода, — ответил я.
— Раньше, когда я хотел есть, то руки у меня совершенно успокаивались. Но я использовал их для дела, понимаешь ли. — Он подмигнул и засмеялся. — Ты не поверишь, сколько кошельков я вытащил вот этими руками.
Поднял руки к глазам и довольно поглядел на них. Он опять чуть не опрокинулся, но вовремя удержался. Мне стало легче, когда я узнал, что он преступник, вор, а если среди воров и были стукачи, то этому, похоже, хотелось только похвастаться и заплатить за это слушателю. Как потом оказалось, я ошибался.
Он снова заговорил серьезно:
— Что это ты так рано на ногах?
Я колебался, обдумывая ответ, потом откашлялся.
— Я рабочий. С ночной смены.
Я с жадностью набросился на еду, которую подал хозяин, запивая ее отвратительным пойлом.
— А я подумал, что у тебя бессонница. Значит, ты работаешь на машиностроительном. Только там ввели ночные смены.
— Ага, там и работаю.
Скудная пища лишь слегка притупила мой голод. Утерев рот рукавом, я собрался встать и проскользнуть между столиками, но собеседник схватил меня за руку. Хватка у него была профессиональная и крепкая, не то что у кабатчика. Он заставил меня снова сесть.
— Пожрал за мой счет и собрался так просто смыться? Что у тебя за срочные дела такие?
— Нужно посмотреть кое-что на окраине.
— На окраине? Посмотреть? Я думал, ты спать хочешь, после смены-то.
Я подошел к стойке и спросил хозяина, нет ли у него какой-нибудь бритвы.
— Тебе здесь что, галантерейный магазин? — спросил он.
Повернувшись ко мне спиной, он стал вытирать посуду засаленной дырявой тряпкой.
— Виорель, конечно, у тебя тут не галантерея, хотя на ней ты наверняка заработал бы больше, чем на этой забегаловке. Но почему ты не скажешь гостю, что живешь рядом и с удовольствием принесешь то, что ему нужно? — опять вмешался незнакомец.
Кабатчик вытер руки, достал связку ключей и спросил:
— Ты платишь?
— Разве я еще не заплатил? — последовал ответ из угла.
Мы остались одни, незнакомец опять отодвинулся в тень и исчез из виду. Тусклый свет со внутреннего двора освещал пивную во всем ее убожестве. Я очутился в месте, которое, похоже, обходили стороной не только сменные рабочие и страдающие бессонницей, но, может, даже и пропойцы.
— Как называется это место? — спросил я.
— Очень просто: пивная. У нее нет названия, — ответил незнакомец.
— Похоже, она не очень-то популярна.
— Мне уже кажется, что я тут единственный клиент. С неделю назад меня принес сюда Тику, теперь придется платить, чтобы меня носили.
— Не понял, как это?
— Иди сюда, сейчас покажу.
Когда я подошел, он резко отодвинул стол, так что его стакан упал на пол и разбился. И тут я увидел, что у него нет ног. Он засучил одну штанину и почесал рубец. Только теперь я узнал в нем того самого попрошайку, который когда-то угрожал нам с Катицей проклятием. Раньше он столовался в самых дорогих ресторанах города, а теперь оказался в этой дыре.
— Меня зовут Мушка, потому что я почти ничего не вешу. Прямо как муха. Тот, кто носит меня, совсем не чувствует тяжести. А тебя как звать?
Я опять замялся.
— Раду.
— Странное имя для того, кто говорит с таким сильным швабским акцентом.
Он прекрасно видел, как я занервничал, но ему это вроде бы нисколько не мешало.
— Послушай-ка, Раду-шваб! Когда хозяин вернется, я отошлю его опять. Пусть принесет тебе еще и чистую рубашку. Тогда ты приведешь себя в порядок, и мы вместе отправимся на окраину города. Я просто хочу, чтобы ты меня немного подвез, а то я отсюда никогда не выберусь. Увидишь, я совсем легкий. Согласись, это не такая уж большая услуга за то, что я плачу за тебя.
В тесной подсобке я помылся холодной водой из шланга и побрился. Увидев свое отражение в треснувшем зеркале, я не узнал себя. Прежние мягкие и гладкие черты лица исчезли, взгляд стал решительным, даже надменным. Я надел свежую рубашку и вернулся к безногому.
— Я отнесу тебя, но только один раз.
Калека молча придвинулся поближе и ловко забрался мне на спину. Я сложил руки у него под задом, а Мушка обхватил меня за шею, и я встал. Он действительно почти ничего не весил. Я отправился в сторону Йозефштадта, пересек рынок, где продавались подгнившие или засохшие овощи и фрукты. Лавка вдовы Остеррайхер, возле которой я когда-то встретил Катицу, была все еще заколочена, а над витриной красовалась надпись: «Чертовски хорошая кондитерская».
В бывшей парикмахерской на углу теперь торговал старьевщик, а на месте ателье мадам Либман я увидел старого сутулого столяра. Кинотеатр Мози был закрыт, но на стене еще оставались обрывки афиш последнего сеанса — весна 1949-го. Мастерская «Бергер», где раньше делали красивейшие вывески, была на месте, но стала кооперативной.
— Я хорошо помню кино Мози, — прошептал мне в ухо Мушка, до этого молчавший, пока я бродил по Йозефштадту.
То и дело я останавливался, чтобы усадить его поудобнее.
— Раньше Тику носил меня сюда, когда в городе было негусто. Мы просиживали тут до вечера, пока не собирался народ в открытых кафе.
— А куда же делся Тику? — спросил я.
Он плюнул на мостовую в миллиметре от моего уха.
— Смылся неделю назад со всем, что я нажил попрошайничеством. Поверь, это было немало. Десять лет он меня носил, а потом одна бабенка вскружила ему башку — и поминай как звали.