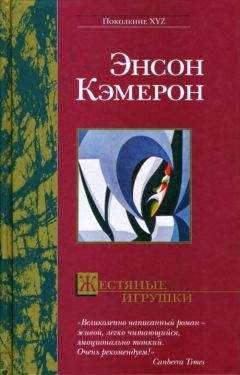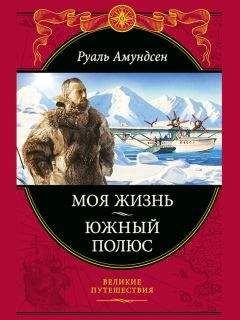— Она никогда не пропадала назло мне.
— Значит, теперь мы с вами в одинаковом положении, — говорит он. — Значит, теперь вы занимаете в ее сердце не первое, не исключительное место. Она никогда не оглядывается назад, Хантер. Она легко бросает тех, кого любит.
Я машу ему свободной рукой.
— Нет, нет, нет. Она не решила бросить меня. Ничего подобного. Мне жаль вас разочаровывать, но мы слишком любим друг друга. Мы целовались как двое безмозглых юнцов в аэропорту, когда она улетала. Как пара эксгибиционистов. Целовались, и плакали, и все такое, пока по радио давали последнее объявление о посадке на ее рейс. Стюардессы, закаленные миллионом расставаний, и те присвистывали. Это невозможно. Мне жаль вас разочаровывать, но это не ее инициатива. Не ее.
Что на самом деле неправда. Мы расставались совсем не так. Не было в нашем расставании ничего такого, врезающегося в память и разжигающего огонь у тебя в крови, как в других случаях. Ну, скажем, как тот сыр из козьего молока, который она так любила, сидя за столиком в витрине «Деликатесов Боссини», или тот «Рэмплингз Пино», который она всегда заказывала к сасими… Эмоции при нашем расставании были рассчитаны и выверены — ровно на месяц. Никаких там излияний или признаний в вечной любви, никаких там попыток прикрыть страх предстоящего одиночества. Собственно, юмора в нем было больше, чем горя. Мы подкалывали друг друга, подшучивая над серьезностью предстоящей ей поездки. Нас ждало будущее, в котором было место только хорошему.
И, если оглянуться на него из сегодняшнего дня, расставание наше было просто-напросто будничным. Совершенно неадекватным той реальности, что последовала за ним. Мне жаль, что в нем не было ни слез, ни клятв, ни поцелуев, прерванных отлетом. Но их не было.
* * *
Было раннее утро, когда я вез ее в аэропорт на «КОЗИНС И КОМПАНИИ», всю дорогу пытаясь убедить, что Бугенвилль не так уж и важен. Что в мире, полном враждебности и насилия, она вполне могла бы позволить себе плюнуть на этот Бугенвилль. И пытаясь выпытать из нее, на сколько она все-таки летит. На что она мне не хочет или не может ответить, разве что будет дома к Рождеству, и уж наверняка до Дня Австралии, до объявления результатов конкурса, когда меня провозгласят знаменитым гением.
Мы оставили машину на стоянке такси между спящими таксистами, и я нес ее бирюзовый рюкзак, и она прошла контроль, и мы пошли, держась за руки, по длинному коридору, подвешенному над стоянкой, вдоль которой семьсот сорок седьмые «Боинги» высасывали пассажиров в окружающий мир. И по дороге я поднес ко рту руку с воображаемым микрофоном и гнусаво, подражая комментатору боксерского матча, объявил: «Ле-е-е-еди и джентльме-е-ены Бугенвилля, будьте добры, возьмите свое оружие наизготовку и пррриготовьтесь к бою! На ринг, с южного угла, из Токио, Япония, транзитом через Мельбурн, Австралия, приглашается выступающая в весе, близком к нулевому, прибывшая с целью изучения и исправления опасных ситуаций мира… Посланница Дьявола… мизззз Ки-ми-ко Ай-о-ки!!!»
— Эй, знаешь, — говорит она мне, — у тебя голос сейчас точь-в-точь как у этого… как его? Ну, у кинозвезды? Черт, на языке крутится. Ну, как же его? Нет, не вспомню. В общем, козел полный.
— Вот спасибо. Что, расценивать как «козла» в мой адрес?
Она смеется.
— Не собираюсь я исправлять никакие опасные ситуации мира. Я просто хочу убедиться, что это все еще страна, куда могут ехать люди, желающие увидеть мир, каким он может стать. Возможно, я вернусь через две-три недели. Но пойми: вся страна раздроблена на части, не связанные друг с другом, так что о точном расписании и речи быть не может.
— Значит, к Рождеству?
— К какому такому Рождеству?
— Ну, к празднованию дня рождения Иисуса Христа. К Рождеству.
— Да нет, раньше.
— Не говори, пожалуйста, «раньше» так, словно тебе самой тошно. У тебя чувство времени, как у алкаша. Ты даже не знаешь, когда Рождество.
— Ну, я же не христианка, откуда мне знать?
— Синтоистка чертова. А День Австралии? Ты хоть ко Дню Австралии вернешься?
— Я японка, — отвечает она. — Откуда мне знать, когда он, этот День Австралии? И потом, что мне на нем делать? — поддразнивает она меня. Потом улыбка сходит с ее лица, и она останавливается, и я тоже останавливаюсь, и она поворачивается лицом ко мне, а я поворачиваюсь лицом к ней, и она берет меня за руки, и прижимает их к шелку своей блузки, к своему тугому животу, и смотрит куда-то в глубь меня, и говорит: «Кто еще может быть с тобой в этот день? К черту Рождество. День Австралии — вот срок. Я не собираюсь пропускать, как выберут твой флаг. Ни за что на свете. Мы с тобой будем вместе в этот день», и мы целуемся в губы. Не страстно, как пробуждаясь по утрам; просто в подтверждение этих слов. Простой поцелуй как доказательство того, что между нами все всерьез и надолго. Как печать на договоре.
Мы добираемся до сектора номер 9, где она должна проходить паспортный контроль, и подходим к черной раме металлодетектора, по сторонам которого стоят два мордоворота в черной форме, водящие в воздухе ручными приспособлениями для обнаружения всякой гадости и смотрящие на проходящих пассажиров, явно показывая, что от них и их устройств не скроешь ничего. Словно при желании они обнаружат и высветят все ваши мысли и заботы.
И чтобы показать Кими, что я не боюсь ее отъезда и не грущу по этому поводу, я кричу им: «Привет, ребята!» — и машу им как старым друзьям. Лица их остаются бесстрастными. Один из них чуть заметно кивает мне в ответ, и Кими еще менее заметно кивает ему, и мы оба едва удерживаемся от смеха. А потом мы обнимаемся, и она чмокает меня в ключицу, а я чмокаю ее в лоб, потому что в губы мы уже целовались, и, в конце концов, это ведь короткая поездка, верно?
И пока мы обнимаемся, она заводит правую руку за спину, и плюхает свой рюкзак на ленту конвейера, и его несет сквозь рентгеновский аппарат, и поверх ее головы я вижу на экране его высвеченное, словно опухоль в организме, содержимое. Ее гребень, и фотоаппарат, и компас, и губная помада, и мелочь в блеклой дымке бумажных купюр, и обойма серых патронов — тампонов, как нарочно напоминающих мне, что ее цикл в порядке и что у нас с ней все еще впереди. Все эти белые призрачные очертания накладываются на призрачную геометрию сложенных карт. Потом мы отрываемся друг от друга, она шагает через черную раму, реагирующую на металл, и забирает свой рюкзак, и я кричу ей: «До скорого!» И она кричит в ответ: «До скорого!» — и посылает мне воздушный поцелуй. И я смотрю ей вслед, до тех пор как она скрывается за дверью, у которой ослепительно улыбается проходящим пассажирам белокурая бортпроводница.
* * *
— Она столько разъезжала по всяким гадким местам, — говорит мне м-р Айоки. — По Африке. По Ближнему Востоку. По Восточной Европе. Теперь вот Бугенвилль… — Он пожимает плечами, словно не видит, чем может быть ей опасен этот Бугенвилль.
Он отказывается сказать, что его дочь попала в отчаянное положение. По крайней мере мне. Я стою, оглядываясь по сторонам, переводя взгляд с одного артефакта, сувенира его впечатляющего прошлого, на другой. Взгляд мой задерживается на фотографии, запечатлевшей его и нашего страдающего избыточным весом экс-премьера, играющих в гольф на какой-то безбрежной зеленой лужайке, при этом он позирует камере, улыбаясь от уха до уха и держа мячик для гольфа большим и средним пальцами правой руки, явно после какого-то особенно удачного удара. Возможно, обойдя по очкам этого разжиревшего бегемота.
Краем глаза я вижу, как ярко горит в наступившей ночи красно-зеленая эмблема покрышек «Олимпик». Этот надменный маленький человечек, раз в две недели вешающий всем на уши одну и ту же лапшу насчет растущей братской любви между нами и жителями Осаки, стоит, помешивая пальцем кубики льда в своем виски и глядя на меня. Мне все-таки придется достучаться до него.
— Бугенвилль — не просто очередное гадкое место, — говорю я маленькому ему, держащему в пальцах мячик для гольфа. — Для японцев Бугенвилль куда более гадок, чем для большинства остальных людей. Бугенвилль служил японской имперской армии игровой площадкой, и не так уж давно. Бугенвилльцы этого не забыли. Что бы ни случилось с Кими, это из разряда зуб за зуб. Это месть.
Миссис Айоки негромко говорит что-то мужу по-японски. Тот поворачивается к ней, и они обмениваются несколькими резкими фразами. Последнее слово в этом обмене остается за ним, и она опускает голову, уставившись в диванную подушку.
— Она дважды звонила мне, чтобы сказать об этом, — вру я. — И оба раза разговор прерывали.
Он одним глотком допивает свое виски, ставит стакан на стол, сцепляет руки на своем маленьком животике в полоску, смотрит на меня и спрашивает: «Правда? Чтобы сказать что? Что она вам сказала?» Он склоняет голову набок в ожидании ответа.