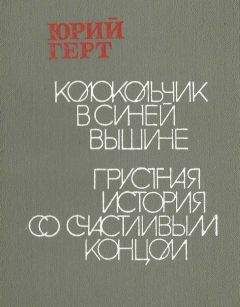При самом большом желании всего этого я никому из них не мог подарить...
ОДА ПРОВИНЦИИ
Нас было трое: Мишка Воловик, Володя Шмидт и я.
В классе нас прозвали «триумвиратом».
Цезарь, Помпей и Кассий тут ни при чем. Попросту все привыкли к тому, что мы неразлучны.
Мы вместе опаздывали на первые уроки, вместе сбегали с последних, вместе потом топали к директору — объясняться. О чем бы ни загорался спор на комсомольских собраниях, само собой выходило, что мы заодно. На воскреснике, едва завидев кого-то из нас, ему тотчас вручали носилки и лопату — на троих. Писарев был нашим кумиром, Лермонтов — нашим любимцем, стихи Маяковского мы не заучивали — они пульсировали в наших жилах, как кровь. Политика была нашей жизнью. Мы холодно, деловито решали, каким путем надежней добираться до Греции или Явы, где шла борьба за свободу: посуху или в грузовом трюме корабля, отчалившего, скажем, из Одессы...
Мы были похожи на многих и многих мальчиков той поры, хотя, вероятно, как и они, считали себя Единственными, Неповторимыми, Неподражаемыми. Так же, как и они, мы презирали провинцию и жаждали вырваться из ее добродушных, ласковых и цепких объятий. Здесь, среди взбаламученного войной, но быстро восстанавливающего устойчивость быта, мы казались себе временно высадившимися жителями какой-то другой планеты, ожидающими сигнала вернуться домой.
Бывает время, когда дети стыдятся своих ничем не знаменитых, скромных, вполне заурядных родителей.
Мы были детьми провинции.
Мы этого стыдились.
Тем не менее, это она вскормила нас и, выпуская в жизнь, похлопала по плечу.
Мы были дети провинции — тихой, серьезной, мечтательной. Таким был наш город.
Будучи провинцией, он не был, однако, захолустьем.
Когда много лет спустя, перехватив среди огромной, толкущейся у входа толпы «лишний билетик», я сидел в театре, столь высоко вознесенном славой, что самый воздух в зале, как на заоблачных пиках, казался ледяным и разреженным, и смотрел спектакль «Три сестры», мне вдруг вспомнился наш ничем не знаменитый облдрамтеатр, вспомнилось, как мы сидели в нем, оглушенные, потрясенные Чеховым, и с каждым словом, долетавшим со сцены, что-то переворачивалось, оттаивало у нас в душе, и было страшно что вот-вот все кончится, мы наденем пальто, выйдем на улицу — и с нами уже не будет людей, которых мы любил к которым привыкли, с которыми вместе страдали, тоску по какой-то иной, прекрасной жизни, не будет трех грустных, нежных, томящихся по Москве сестер, не будет мечтателя и немножко фразера (кто из нас был свободен от этого греха?..) Вершинина, не будет мрачного чудака Чебутыкина... И мне так захотелось туда, в наш старый, добрый, заштатный драмтеатр!.. Нигде больше не встречал я такого забавного Мальволио, доставлявшего залу столько веселья, такой озорной и сердечной Элизы Дулиттл... Давно и прочно забыта пьеса Симонова «Под каштанами Праги», но я помню, как после театра мы чуть не до рассвета провожали друг друга домой, взбудораженные спектаклем, и спорили куда подастся Чехословакия (шел 1946 год), какие силы одержат в ней верх, и с кем будет Божена, героиня пьесы, ее играла молоденькая прима театра Торкачева, в которую мы все были немножко влюблены...
Каждый из нас видел впоследствии артистов куда боле талантливых и уж наверняка более известных, но самыми сильными, самыми глубокими и светлыми впечатлениями мы обязаны тем, кого видели в юности. Или в ней-то, юности — все и дело?... Не знаю, годится ли тут однозначный ответ. Но знаю наверняка: хорош или плох был наш театр — он был наш, и следовательно — единственный на свете...
Театр выходил фасадом на главную улицу города — Советскую. По вечерам за кисейным туманом занавесок в окнах домов расцветали оранжевые абажуры. Тротуар заливала медленно текущая толпа, густая и вязкая, как смола. Новые кинофильмы на экранах появлялись редко, их смотрели по два-три раза. Основным развлечением считалось гуляние по Советской и хождение в гости.
В гости отправлялись без предупреждения, телефонов почти никто не имел. Тем радостней бывала внезапная встреча. Ходили друг к другу обычно всей семьей. Автобусы в городе отсутствовали, трамваями пользовались мало, чаще всего шли через весь город пешком. И если засиживались, то после недолгих уговоров оставались ночевать: не добираться же было домой по темным, глухим улицам в одиннадцатом или даже двенадцатом часу ночи!.. В гостях играли в карты, в преферанс или в маус, а если были дети, то усаживались играть в лото. Потом пили чай...
Мы презирали этот чай. Это лото. Эти карты. Эти разговоры, которые затевались ради того, чтобы скоротать время. Они казались нам пустыми и пошлыми. Так же, как вечернее гуляние по Советской. «Вставайте, граф, вас ждут великие дела!..» Мы не были графами, но мы верили — кто внушил нам эту уверенность?..— что родились для великих дед. Вечерами мы сидели над книгами. Библиотеки тех лет были скудны, журналов никто не выписывал, книгу, раздобытую по случаю, полагалось тут же прочесть и вернуть. Тем не менее читали мы много. Большинство самых важных книг были прочитаны тогда. Они «переваривались» всю остальную жизнь, «пожирались» же именно в те годы.
Достопримечательностью нашего города были «пятницы», которые каждую неделю проводила областная библиотека. Она помещалась в здании банка, построенном до революции в изысканном и фальшивом мавританском стиле. Никто из нас никогда не видел настоящих мечетей, должно быть поэтому нам казалось, что библиотека, с ее величавым, отделанным цветной глазурью порталом и резными дверями черного дерева, похожа на мечеть. Во всяком случае мы входили сюда с таким же чувством, с каким правоверные входят в украшенный полумесяцем храм.
Получить билет на «пятницу» (назывались они «литературно-музыкальными») было не так-то просто, в особенности нам, школярам. Но когда библиотекарь, уже не глядя на просительные, молящие наши лица, со вздохом протягивала три заветных билета, наши тела, полные ликования, взмывали вверх и плыли по воздуху точь-в-точь как на полотнах Шагала.
Трещал мороз, бушевала гроза, хлестал дождь — все равно в 7 часов вечера читальный зал библиотеки бывал переполнен. Здесь собирались студенты (в городе было три института), преподаватели, журналисты из областной газеты, артисты драмтеатра и филармонии, любопытствующие юнцы вроде нас, недавние солдаты, снова взявшиеся за учебники, одинаково молодцеватые, подтянутые, будь на них штатский пиджак или гимнастерка, и тут же — всезнающие, всепомнящие старички с аккуратными бородками, сухонькие старушки, похожие на одиноких, жмущихся к теплу птиц. Сидели плечо к плечу, мостились по двое, по трое на стуле, теснились у стен, стояли в проходе. В просторном двусветном зале с большим портретом Н. К. Крупской, чье имя носила библиотека, делалось душно. Распахивали узкие створки стрельчатых окон, но это слабо помогало, впрочем, атмосфера таких «пятниц» была насыщена для нас особого вида кислородом.
В отличие от школы, где положено было, готовясь к уроку, вызубрить заданное «от сих до сих» и потом барабанить «близко к тексту», мы увидели здесь, что об одном и том же можно думать по-разному, спорить, не соглашаться. Здесь читали стихи, пели, выступали с докладами, артисты разыгрывали сцены из спектаклей — и после каждого выступления возникало обсуждение, столкновение мнений, любой, кто хотел, мог в нем участвовать. Понятно, сами мы дрейфили выйти к помосту в глубине зала, где черным лаком блестел рояль и откуда с жаром выступали ораторы. Зато вместе со всеми хлопать, смеяться, шуметь, одобряя или негодуя,— это нам позволялось. Что же до споров между собой, то после каждой «пятницы» нам хватало их на целую неделю.
На «пятницах» читали доклады и сообщения — о Кирове, который в разгар гражданской войны, в 1919 году, организовал оборону Астрахани; о Чернышевском — его сослали сюда после Сибири; о Велимире Хлебникове — он родился и провел детские годы в Астрахани, а его отец был создателем Астраханского заповедника... Между тем, что мы читали в книгах, узнавали в школе, и тем, что слышали на «пятницах», часто не было большой разницы, если не считать разницу между подробным описанием цветка и самим цветком, который можно держать в руке, обонять... Слушая о Кирове, о гражданской войне в Астраханском крае, я вспоминал дядю Илью... Пыльные, неухоженные наши улицы приобретали новизну и значительность, когда я представлял на них Чернышевского. Следом за Хлебниковым в наш город, чуть ли не под своды читального зала, касаясь их пуговкой кепки, входил Маяковский...
Здесь мы впервые увидели «живых» поэтов. Правда, они не были похожи ни на Маяковского, ни на Хлебникова — одного этого нам хватало, чтобы смотреть на них свысока, не принимая всерьез. Но когда в газетах разгорелась дискуссия между Трегубом и Симоновым, она только продолжила споры, горячившие нас на «пятницах». Конечно же, мы были на стороне Трегуба, который атаковал поэзию, размахивая над головой, как палицей, цитатами из стихов Маяковского («В наши дни писатель тот, кто напишет марш и лозунг»). Но с другой стороны — Константин Симонов... Его авторитет был велик, его фронтовую лирику твердили наизусть... И когда он писал, что поэт имеет право и на грусть, и на горькие раздумья, и на то разнообразие чувств, которым живет человеческое сердце, тут было о чем поразмыслить...