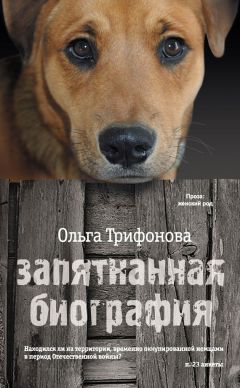— Поставьте чайник на керосинку. Яша скоро вернется.
Виктор вынул из кармана полкруга ливерной, купил в «трамвайке» — магазине трамвайного депо имени Петра Щепетильникова. Там всегда была свежая ливерная и серо-голубой «стюдень», как говорила соседка Дуня.
Люсенька посмотрела на колбасу и громко сказала:
— У людей просить не надо, люди сами дадут.
— Правильно, — одобрил Семирягин, — последнее это дело — людей просить. Тюх-тюх-тюх, разгорелся мой утюг.
— У людей просить не надо, — повторила Люсенька.
— Потерпи, — не отрываясь от расчетов, сказал от окна Василь, — а вы чайник поставьте, сказано же вам.
Яков вернулся довольный. Выгодно обменял на Казанском штампованные немецкие часы на мешочек муки и десять банок американской тушенки. С ним пришел инвалид. Яков любил приводить калек, угощать и до поздней ночи вспоминать войну. Один из инвалидов ловко спер аккордеон — главную ценность дома, но Яков продолжал водить убогих, правда, уже не так часто. Этот был неприятный, опухший, хриплоголосый и развязный.
— Вы что это? Бомбу робите? — спросил, ткнув костылем в модель.
Семирягин так и взвился:
— Ты эти штуки брось. Привели тебя подкормиться, так веди себя смирно. Не суйся. Это не по твоему уму. Наука.
— Что ж за наука, вроде самогонного аппарата? — инвалид зорко заплывшими глазками обшаривал комнату.
— Это, — Яков сел перед ним на стол, — это ты, и я, и он, и она, — показал на Люсеньку.
— Ну я и она, понятно, — оба безногие, а вы при чем?
Пока Виктор с Марией Георгиевной ставили чашки, тарелки, Яков просвещал инвалида. Рассказывал про хромосомы, про то, как состоят они из генов и есть в каждой клетке человека, как делятся особые половые клетки и весь человек заложен вот в такой молекуле, и как молекула распадается на две части, и каждая повторяет себя, и так без конца, пока не образуется живое существо.
— Это еще бабушка надвое сказала, что они распадаются, — буркнул Василь.
Инвалид оказался смышленым. Спрашивал, если у родителей разные глаза, то с какими родится ребенок, чей характер унаследует. Яков вернулся к Менделю, к бобам, к доминантным и рецессивным генам. Инвалид ушел поздно, оставив две десятирублевки. Яков сердился, требовал, чтоб забрал.
— Да мне хорошо подают, — смеялся инвалид. Выпил много, но не сказалось, только повеселел очень. — У меня сейчас время наступает самое рабочее. Ночь, люди скучают на лавках. А я тут как тут. Для бабенок: «Расскажу я вам вещь ужасную, это дело было в сорок третьем году…» Для мужиков: «В огороде под навесом армянин с тяжелым весом, а под ним Зюлейка Ханум…» Знаете такие песни? Прощевайте, я к вам заходить буду, может, придумаете, как мне ногу-руку вырастить из ваших генов-хренов.
Мине Семирягину он не понравился.
— В тылу ему руку-ногу оторвало снарядиком самодельным, знаю таких.
— Да он же рассказывал и про Корсунь, и про Гадяч, Третий Украинский — все совпадает, — не соглашался Яков.
— Я тебе такого порассказываю, такие узоры разведу. Да ладно! Аллах с ним. Вы меня послушайте. Сидите здесь, как сычи, в бирюльки играете, а у нас собрание было.
— Ну и что?
— А то, что аспирант этот выступал, с красными губами. Говорил, что есть люди, которые уродов в колбе выращивают.
— Ну и что, он идиот и мракобес, — Яков сидел откинувшись, ковырял в зубах. Был розовый, разгладились ранние сухие морщины.
Мария Георгиевна укладывала Люсеньку, напевала тихонько: «Дверь ни одна не скрипит, мышка за печкою спит, кто-то вздохнул за стеной…»
— Кто? — спрашивала Люсенька совсем не сонным голосом.
— Через десять лет я бы ее вылечил, — неожиданно сказал Василь, — если б начал заниматься микроорганизмами, а не этой бодягой, — кивнул на модель.
Яков перевел взгляд на него, спокойный взгляд подвыпившего человека, улыбнулся, прикрыв веки.
— Остался один рывок, и можешь убираться на все четыре стороны, но сейчас, сейчас уже поздно.
— А про кого он говорил, что выращивают? — спросил Василь. — Имена называл?
— Нет, но смотрел на меня.
— Да брось ты, — Яков потянулся сладко, — брось! Ты-то при чем?
— А при том, что я говорил, что вам несдобровать. Вас трое — целая компания, а компанией нельзя. И меня впутали, заставляете воровать, а что делаете — не знаю. Зачем вам эти жестянки?
— Инвалид и тот понял, а ты год возле нас кантуешься и не знаешь.
— И знать не хочу. И делать больше ничего не буду, и не просите.
Допил водку, встал; Яков молчал, раскачиваясь на стуле.
— Я ухожу.
— Валяй. Только возьми тушенку, две банки, что заработал.
Виктор остался ночевать. Зина уехала к тетке, домой идти не хотелось. Мария Георгиевна постелила им с Василем, как всегда, на полу, в кухне. Еле дождался, пока закончат привычные разговоры о молекуле. Им не давал покоя гуанин и тимин. Что-то с водородными связями не получалось.
Прочитал письмо матери, вместе пытались разобрать зачеркнутое. Василь угадал еще одно слово — «много», остальное — невозможно, замазано намертво.
— Впору мне под рентгеном посмотреть, — сказал Василь. — Это что-то важное. Раньше, когда ты письма показывал, ничего ведь не было зачеркнуто, она женщина неглупая, лишнего не писала.
Вместе обследовали кофр, особенно отличился Василь, ножом подлезал под бамбуковые бандажи, искал записку. Ничего.
Утром умывались с Яковом на дворе. Виктор сливал воду на мощную спину, перепаханную бороздами шрамов. Протянул полотенце.
— Я догадался, — сказал Яков.
Смотрел яркими глазами, лицо будто слезами залито.
— Я догадался. Там написано, что у них теперь много твоих ровесников, то есть понимай: начали сажать детей врагов народа. А чемодан этот — догадайся сам… — Закрыл лицо полотенцем, донеслось глухо: — Сматываться тебе из Москвы надо, да и мне, пожалуй, тоже.
Хлопнула дверь. Из соседней двухэтажной развалюхи вышел Миня Семирягин. Остановился на крыльце. Волосы прилизаны на косой пробор, рубашка свежая, белая с отложным воротничком.
— Андреич, — окликнул, остановившись, — утро доброе.
— Доброе, — отозвался Яков, помедлив.
— И вам, молодой человек, здравствуйте.
— Здравствуй.
— Андреич, так я к завтрему поднесу основания?
— Ага. И проволоки прихвати.
— Оне фраге. Вечером не приду, опять собрание. А завтра встренемся, поработаем.
А завтра все покатилось, как огромный состав под гору.
Сначала раздался гул. Гудел университет, гудели газеты, гудела земля. Поезд набирал скорость, в вагонах кричали, отчаянные соскакивали на всем ходу, катились под откос, безумные рвали тормозные краны, и все это орущее, проклинающее, стенающее ринулось в бездну.
Выползали окровавленные, прятались по углам, зализывали раны.
Осенью Виктор Агафонов с молодой женой катался на пароходе «Россия» по Черному морю. Проматывал премию величайшего в мире. Иногда до вечера не выходили из каюты, и гул, который услышал тридцать первого июля, навсегда слился с пульсированием бешеной крови в ушах.
Но сначала была сессия. Она открылась в последний день месяца.
Егорушка вечером гладил манишку Николая Николаевича. Противно скрипел под утюгом крахмал. Николай Николаевич глухим голосом читал свой доклад.
— Зачем дразнить гусей? — спросил Буров. — Имя Шредингера для них, что красная тряпка для быка. От вас требуется немного — в дополнение к выступлению Валериана Григорьевича рассказать о работе института, а вы Шредингера своего вытащили.
— Эта книга перевернула умы, как же я могу о ней не упомянуть?
— Она-то перевернула, но я знаю отношение к ней президента.
— А нам наплевать на отношение президента, — неожиданно резко сказал Петровский. — Кто такой президент? Неуч, обскурант.
— Но этот обскурант, как вы изволили назвать совершенно справедливо, — глава академии и любимец…
— Меня это не интересует, — Николай Николаевич складывал листочки доклада, — меня совершенно не интересует, кто чей любимец, к науке это касательства не имеет.
— Поживем — увидим, — миролюбиво отступил Буров. — Ну что, Валериан Григорьевич, повторяешь приглашение?
— Конечно, — Петровский невольно глянул на Егорушку, который перестал гладить и был весь внимание.
Буров с простодушной бестактностью устроил неловкость. В отсутствие Егорушки Петровский предложил всем идти к нему ужинать. В доме отмечали день рождения его маленького сына. Подразумевалось само собой, что Егорушка останется, но теперь, когда Буров так некстати напомнил о приглашении, ограничение трудолюбивого Егорушки в праве на вкусную еду и интересное застолье уже не казалось таким естественным. Ведь праздновался день рождения ребенка, а Егорушка тоже был как бы сынком, и притом нежно любимым.