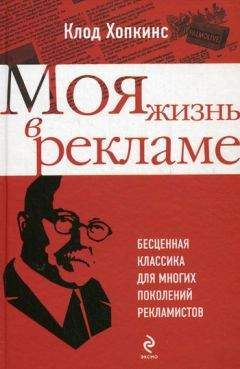Но как бы там ни было, формальности, связанные с прохождением таможенного и пограничного контроля, оформлением билетов, багажа и прочими нудными дорожными ритуалами, здесь были сведены к минимуму, а то и отсутствовали вовсе. Очень важные персоны потягивали кофе и прочие напитки в баре на втором этаже, ожидая того момента, когда улыбчивая сотрудница поведет их через предусмотрительно распахнутые пограничником врата Родины к трапу самолета, минуя очереди, дополнительные досмотры и проверки, а главное, освобождая от вязкого прозябания в черепашьем течении секунд непосредственно перед посадкой.
Однако накладка произошла именно в зале VIP. Когда пассажирам цюрихского рейса голос в динамике (любезно и разборчиво) предложил пройти к выходу на посадку, именно там, в двух с половиной шагах от государственной границы, произошло нечто.
Пунцовый, то ли от страха, то ли от смущения, офицер-пограничник срывающимся голосом сообщил господину Рокотову о том, что его фамилия, очевидно, по какой-то глупой ошибке или чьему-то недосмотру значится в списках персон, которым запрещено по разным, но совершенно законным основаниям покидать территорию России. Пограничник еще не успел договорить свою речь, как ее продолжили, подхватив буквально на лету, два других пограничных чина, более высоких, судя по количеству звезд на погонах и степени душевного волнения, граничащего с потрясением.
– Очевидно, Дмитрий Игоревич, тот досадный инцидент с прокуратурой… – сбивчиво – объяснял старший из пограничников, стоя перед Рокотовым «во фрунт». – И, вероятно, просто не успели вынуть из компьютера. Мы уже разбираемся…
– Разбирайтесь, – негромко перебил Рокотов, не потому, что хотел обидеть, а потому, что все уже понял и, не желал тратить время на выслушивание лишних слов, неспешно опустился в одно из кресел, разворачивая на ходу попавшуюся под руку газету.
Он так и просидел с ней, внимательно прочитывая одни материалы и бегло просматривая другие. В этом Лариса могла поручиться – она ни на минуту не прекращала наблюдать за ним, используя одной лишь ей известные приемы. Он этого наблюдения не замечал, а она была уверена – он не притворялся – он действительно спокойно читал газету все то время, пока прибывающие с каждой минутой все новые чины в зеленых и синих мундирах, гражданском платье, неимоверно суетясь и явно мешая друг другу, наконец, едва ли не хором, доложили ему, что вопрос решен и господин Рокотов может немедленно проследовать в самолет. Вылет которого, к слову, задержали на тридцать минут, но это было, по-видимому, во власти мундиров.
Ларисе не понравилось и это. Причину своей неприязни к Рокотову она знала хорошо. Здесь не над чем было ломать голову и удивляться тому, что умное, сдержанное спокойствие и отнюдь не показная уверенность в себе одного нормального человека могут вызывать столь откровенное неприятие другого нормального человека. При условии, что никаких личных, профессиональных, имущественных, родственных и прочих проблем между ними не стояло. Здесь все было как раз просто. Лариса, совершенно непозволительным для себя образом, эмоционально, непрофессионально, негуманно (в конце концов, он ни за что ни про что отсидел в самой настоящей тюрьме!) – но считала Рокотова отчасти виновным во всем, что произошло с Леной Егоровой, да и всей ее семьей. А точнее, именно наоборот, – с семьей Лены Егоровой, а уж потом и с ней лично. И ничего не могла с собой поделать. Поэтому, уже на борту самолета, самым решительным образом она выдвинула ему свой ультиматум и вместе с недоуменным взглядом, туманно растворенным за стеклами дымчатых очков, получила столь же недоуменное, но без малейшего интереса по поводу причины и лишенное каких-либо более ярких эмоций согласие.
Далее они занимались каждый своим делом.
Три дня неожиданно примирили их друг с другом.
Рокотов заговорил. И Лариса не остановила его.
– Дикая. С точки зрения нормальной жизни…
– Да, разумеется, вы чаще сталкиваетесь с патологиями…
– Я не это имела в виду. С точки зрения нормальной жизни, то есть жизни, к канонам которой наша психика привыкла и к ним адаптировалась. То же, что происходит теперь, она, то есть психика наша, понять не может. Эта жизнь для нее ненормальна. И происходят дикие истории.
– Да-да, я, кажется, понял вас. Впрочем, простите, все же не очень понял, но вы запретили по дороге сюда…
– Простите. Мне тоже надо было прийти в себя. Возможно, тон был недопустимым, но менее всего я хотела тогда изображать из себя этакую мисс Марпл, в финале потчующую всех истиной, как девонширскими сливками во время «five o'clock».
– Что-нибудь изменилось с тех пор? – В голосе Рокотова сквозила такая неприкрытая, почти детская надежда, что Ларисе стало стыдно за свой ученый снобизм. В конце концов, кошмар не просто задел – ударил, и пресильно, опрокинув при том самого Рокотова. Что же до вины, то сейчас она казалась Ларисе не такой уж бесспорной.
– Спрашивайте, чего уж там? – обреченно махнула она рукой, внимательно вглядываясь в лицо Рокотова. – Могу лишь просить вас об одном одолжении?
– Что угодно.
– Вы ведь не очень близоруки и вполне можете обходиться без очков. Снимите их, если, разумеется, это…
– Ах, вот вы о чем? Нет, разумеется, ничего эдакого. Просто привычка, если хотите. Имидж. Или как там у вас говорится? Психологическая защита. Извольте. – Глаза Рокотова, лишенные матовой дымчатой завесы, оказались совершенно обыкновенными, небольшими, карими, внимательными, проницательными даже, но без демонизма и… неожиданно добрыми.
– Удовлетворены?
– Вполне. Спасибо, спрашивайте.
– Не вижу логики. Очень многие ее поступки алогичны. Погодите смеяться: я не могу сформулировать это по-другому, но в чем-то она была потрясающе логична, предусмотрительна и вообще… являла чудеса разумной деятельности. Тем более если учитывать ее возраст и, так сказать, состояние здоровья… Но в чем-то, напротив, действовала совершенно нелогично. К примеру, зачем было убивать Бунина, если она смогла самостоятельно убить Раю? Не понимаю…
– Хорошо. Давайте по порядку. Кстати, смеяться мне совершенно не над чем: душевнобольные люди проявляют иногда чудеса изворотливости и смекалки. Здесь историю надо рассматривать в динамике. Поймите, она, обозначим ее, как уж привыкли, Ангел (надеюсь, Создатель простит нас за это), родилась отнюдь не вместе с Леной. Иными словами, недуг не был врожденным или приобретенным в младенчестве. Хотя основы были заложены. Она начала формироваться много позже из Лениных страхов.
– Главным из которых был страх потерять отца?
– Отнюдь. Этот страх был как раз производным. Более всего на свете она боялась возвращения прошлого: нищеты, унижений и всего прочего, что помнила много лучше взрослых. Запомните, Дмитрий, и простите за менторский тон, дай Бог, чтобы вам это никогда не пригодилось, но ваши дети, я имею в виду детей, растущих в достатке и сверхдостатке, гораздо более уязвимы, чем их малоимущие сверстники. Им есть ЧТО терять, это ЧТО – единственное, что у них пока есть, что выгодно отличает их от прочих, потеря ЧЕГО представляется им очень реальной (плохая пресса, мрачные прогнозы, ссоры родителей) и страшной. Страх Лены увеличивайте на порядок. А то и на два. Во-первых, в силу постоянных, глубоких депрессий в детстве из-за неверной, если не сказать порочной, системы воспитания – воспоминания детства потому глубоки, ярки, неистребимы. Сверстники знают, ЧТО они могут потерять, Лена, ко всему прочему, помнит, ЧТО придет на смену. Это первая составляющая боязни потерять отца.
Вторая – известная «милицейская» схема: плохой следователь – мать, хороший следователь – отец. Потеря второго – абсолютная власть первого.
Третье. Возрастной, нестрашный, если приходит и уходит вовремя, почти обязательный, как корь, комплекс Электры. Все девочки переживают период, когда их внимание к отцу есть не что иное, как внимание к первому мужчине, которого она имеет возможность наблюдать и изучать рядом с собой. Здесь случается и ревность к матери, и многое другое, но, повторюсь, это проходит. У Лены не прошло. И, оказавшись не в своем возрастном этапе, начало приобретать уродливые патологические формы.
И наконец, четвертое. Когда сексуальное, так скажем, образование девочки, теоретическое разумеется, достигло такого уровня, когда отношения между матерью и отцом, а вернее их отсутствие, перестали быть для нее тайной, единственный вывод напросился сам собой: отец вскоре оставит мать (благо примеры перед глазами были, уж простите, в достатке!). А значит, и ее, Лену!
Все. Крах. Катастрофа. Смерть. Но подсознание наше, знаете ли, Дмитрий, субстанция многофункциональная – и кладовая, куда при случае можно забросить навязчивый скелет ближайшего друга, которого не выдержал Боливар, и пару увядших камелий с чахоточной груди Манон Леско, но оттуда же можно извлечь и нечто пострашнее. Там, например, терпеливо сторожат наш душевный покой и ждут только своего часа монстры покруче всех ваших модных нынче бойцовых собак. В любую минуту готовы они вырваться наружу, и, поверьте мне, тем, кто станет на их пути, пощады не будет. Чего там только нет, Дмитрий, в нашем с вами загадочном подсознании!