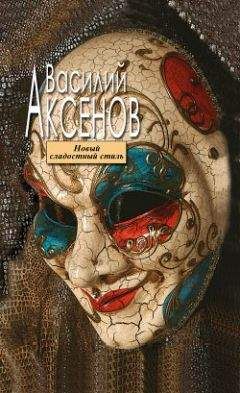Так или иначе, произошла некоторая, пусть умеренная, сенсация, и Александр, к тому времени уже достаточно американизировавшийся, ждал, что последуют какие-нибудь предложения из театров (ну, скажем, «Арена Стэйдж», или «Кокто», или «Ля Мамма», назовите сами), а то даже с Бродвея или из Голливуда. Он все же еще недостаточно американизировался. Только позже он понял, что люди, которые делают «предложения», никогда не читают в газетах новостей о парковщиках.
Местный театрик «Арго» все-таки предложил ему поставить у них Чехова. Его давно уже слегка подташнивало от бесчисленных сценических вариантов сестер-дядьев и чаек-с-вишнями, но все-таки он завелся и предложил им в ответ некую постмодернистскую Чеховиану. Увы, «аргонавты» хотели более традиционный, то есть все-таки более коммерческий, вариант. За все про все маэстро Корбаху была предложена сумма, которую он зарабатывал в неделю у Тихомира Буревятникова. Получалась какая-то идиотическая ситуация: возвращаться на паркинг после «сенсационного раскрытия» было невозможно, прокормиться без паркинга было нечем.
Все решилось совершенно неожиданным образом. Нора, собрав все вырезки из газет, соорудила ему превосходный curriculum vitae и отправилась с оным к президенту своего «Пинкертона». О, эти американские си-ви, до сих пор непонятные русскому разуму и сердцу! Русский ведь человек привык прибедняться, скромничать, опускать глаза долу. Он все надеется, что кто-то за его спиной, так, чтобы не смущать, распространит о нем похвальную информацию. Трудно ему понять, что здесь, в Америке, ты должен сам показать свой товар лицом: да, гениален, да, эффективен, да, совсем не стар, да, не лишен юмора, да-да, будет хорошим коллегой.
Так или иначе, но к Александру Яковлевичу вдруг явилось письмо с университетским грифом, с тисненой печатью и личной, отнюдь не скопированной, подписью президента Миллхауза, одного из столпов американского образовательного процесса, достоинству которого могли бы позавидовать иные избранники Белого Дома.
Дорогой господин Александер Корбах,
зная Вас как одного из выдающихся режиссеров современного мирового театра, Президент и Совет Попечителей университета «Пинкертон» имеют честь предложить Вам позицию «режиссера-в-резиденции» сроком на три года (с полной возможностью продления) и с годовым окладом 70 000 долларов (переговоры по поводу увеличения этой суммы возможны). В договоре, разумеется, будут предусмотрены все дополнительные бенефиты, в частности, по медицинскому страхованию и пенсионному фонду.
Мы искренне надеемся, что Вы примете наше предложение и академическая общественность нашего университета, а также и всего Большого Вашингтона обогатится таким исключительно ценным сотрудником. Мы предвкушаем удовольствие от новых спектаклей в нашем экспериментальном театре, созданных под влиянием Ваших театральных, поэтических и философских идей.
С более подробным письмом к Вам обратится заведующий кафедрой театра профессор Найджел Таббак.
Искренне Ваш Бенджамен Ф. Миллхауз, Президент.В тот же вечер позвонила Нора. Получил? Проси восемьдесят пять, дадут восемьдесят. Что, ты еще не решил? Саша, неужели ты не понимаешь, что нам на Западном побережье делать нечего? Ошеломленный этим «нам», он стоял на своем деке и прощался с густо лиловеющим океаном, по которому сильный южный ветер гнал мексиканскую рябь. Ну что ж, Океаша, из всех существ Нового Сира ты был ко мне самым снисходительным. Уезжаю к твоему не столь широкому в животе, а, пожалуй, продолговатому брату. Не обижайся, ведь вы же связаны друг с другом, как сиамские братья.
Итак, к концу шестой части, в начале восемьдесят седьмого года, наш герой отметил прохождение середины романа переездом в столицу нации город Вашингтон, который прижившиеся там русские эмигранты именуют Нашингтоном. Он снял, а впоследствии и купил квартиру в сердце густо набитого всякими человеческими типами района Дюпон. Теперь вместо снисходительного к Саше Океаши он мог видеть из своих окон винную лавку «Микси Ликуорс», кафе «Зорба» и «Чайльд Гарольд», многоцелевой универмаг «Подымающаяся Лямбда», а также книжный магазин Крамера, в который можно было зайти в час ночи и выпить пива.
Прежде чем завершить эту часть, нам тут следует сказать, что первым человеком, позвонившим Саше по телефону, оказалась даже не Нора, а ее отец Стенли Корбах. Во-первых, он поздравил четвероюродного кузена с благополучным (что он имел в виду, предоставляем предположить нашему проницательному читателю) переездом из Эл-Эй. Во-вторых, он сообщил, что звонит из больницы. На вопрос, что случилось, он бодро ответил: «Начался нормальный процесс угасания», – после чего перешел к обсуждению новых гипотез миграции Десяти Колен Израилевых.
На этом мы завершаем шестую часть и переходим ко второй половине книги.
Морской лев резвится у рыбацкого причала…
A sea-lion plays near the Fishermen’s Wharf.
Третий раз за пять лет прихожу в ресторан «Алиото».
Меня тут не забыли, помнят, что не вор.
Прошлый раз приветствовал сам синьор Акселотл.
С тех пор тот лев не постарел…
Since then that sea-lion hasn’t grown old,
Беженец моря ретив и, пожалуй, развязен.
Не скажешь, однако, что и чертовски молод.
Временами даже смешон в своем куртуазе.
К львицам залива Сан-Франциско…
Toward the lionesses of the San Francisco Bay.
Хочется напомнить ему как шаман шаману:
Хоть вы и хулиган, батоно, но все-таки не плебей,
Чтобы ради шайки блядей этой бухты предстать атаманом.
Где ты рассеял свое семя, свое потомство, все капли своей джизмы?
Where have you scattered your seed, your posterity, all drops of your jism?
Могут его спросить в час алкогольного сухостоя.
Можете ли по-комсомольски оценить свою жизнь,
Ту, что плескали когда-то в пучины, не зная покоя?
Найдешь ли лучшее убежище для ебаря на покое?
Could one find a better refuge for a retired stud?
Трудно найти веселее проток в пацифистском пространстве:
Салаты, селедки, красотки из блядских стад,
Словом, все, что потоком течет из местного ресторанства.
Мэтр Акселотл возникает как типаж из моего шедевра…
Maitre Akselotl comes up as a type from my major oeuvre.
Буно джорно, Алессандро! Вам привет от Грапелли.
Я вижу, вас занимает там внизу, этот майор Моржов?
Должно быть, проводите двусмысленные параллели?
Он является сюда, неизменно под газом, раз в год или два…
He comes here, always inebriated, once in a year, or two.
Отчасти это похоже на побывки опытного маримана.
Неделя дебоша, и он сваливает в пустоту,
Иными словами, сэр, на просторы мир. океана.
Не говорите мне, Акселотл, что вы можете его различить…
Don’t tell me, Akselotl, you can distinguish him
Из миллиона морльвов в их гедонистском раже.
Уж не по рожам же, право, вечно бухим?
Как вы можете выделить эту вечно нахальную рожу?
Послушайте, Алессандро, вы видели его левый клык?
Listen, Alessandro, have you seen his left fang?
Метрдотель наклоняется, таинственно подсвечен.
Левый клык у него золотой, как саудовский танк.
Вот по этому признаку он может быть нами вечно отмечен.
Вскоре после того обеда, в час заката…
Shortly after that dinner, by the time of sunset,
Когда ляпис-лазурный и индиго фронтиспис
Отражал весь большой океанский трепещущий свет
На стеклянных боках центрального Сан-Франциско,
Кто-то сделал на компьютере двойной «клик»…
Somebody made in his «apple» a double click,
Отражением отражения вспыхнуло время,
И с пронзительным чувством я узрел золотой клык
Уплывающего в открытые просторы морзверя.
Он покидает, друзья, эти обильные берега…
He is leaving, my friends, these opulent shores,
Покидает обжорные причалы и грязные сливы,
Скорость нарастает, как под ударами шпор,
Зуб, однако, поблескивает в прощальном «Счастливо!».
Он делает вид, что знает свой новый маршрут…
He’s pretending he knows his new destination,
Будто бы знает не только средство, но также и цель
Там, на другой стороне океана, где мытые чистые гейши
Станцуют ему апофеоз из балета «Жизель».
Грудь его, еще мощная, раздвигает течения,
Он плывет к горизонту, где время качается,
будто смерча нога,
Зуб его золотой излучает свечение.
He is going, going, going, mafiozo and merchant… Gone!
Он уходит, уходит, уходит, мафиозо и купец… Пропал!
В январе 1987 Стенли Корбаху исполнилось шестьдесят. Никто не заметил приближения этой даты ни в семье, ни в его офисе, то есть в штаб-квартире империи. Да и он сам не заметил этого. Конечно, он знал, что приближается к границе между средним возрастом и тем, что французы элегантно называют L’Age Troisiem, но дату забыл.