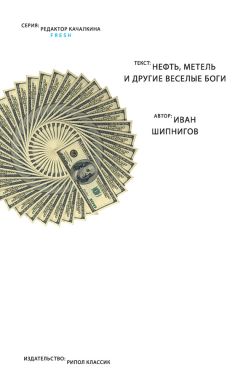Стемнело; включили софиты; вертолет полетал и улетел, вода снова вежливо покипела, кипарисы на прощание покивали, хотя в наступающей темноте эта вежливая гостеприимность все равно была плохо видна, и Гурьев понял, что после всех этих фальшивых нот и не вполне достоверных звезд здесь все-таки останется настоящее чудо, как осталось оно в памяти самого Гурьева после ловких насмешливых манипуляций экранного фокусника с грустным усталым лицом, и, что самое главное, девочка в шортах – она все еще танцевала – любовалась в зеркало не зря, а заранее готовясь, как бы уже летая в маленьком вертолете на недоступной Гурьеву высоте и замирая от видов сверкающей под солнцем бухты, которая обстреливала геликоптер солнечными зайчиками, и представляя себя, может быть, в отражении и блеске экрана, софитов, сцены.
Все закончилось, все встали и, толкаясь, пошли со стадиона: дети огромной толпой – в лагерь, на ужин, звезды и журналисты небольшими группами – на фуршет. Гурьев, подходя к зданию музея «Артека», где намечался раут, увидел, что сейчас удобнее всего сбежать вниз по склону игрушечного серпантина к воде – к маленькому дикому галечному пляжу, до которого была пара сотен шагов. Но тут он заметил Аню, которая сама впервые за день подошла к нему. Гурьев, представив, что она увидит его купающимся, вдруг смутился и снова стал шутить с оскорбительной простотой, как утром в самолете, что-то про трусы и полотенца, но как тогда Аня не поняла его настроения, так сейчас просто его не заметила, будучи, видимо, сильно взволнованной и увлеченной свершившимся праздником.
– Знаете, я никогда не была в таком большом лагере у моря и сейчас, наверное, хотела бы остаться здесь.
Глаза у Ани блестели, как будто она в самом деле была припозднившейся школьницей, которой впервые удалось уехать от родителей в лагерь, тайно выпить там на дискотеке и погулять в темноте с мальчиком.
– Как думаете, смогла бы я сойти за школьницу? Ведь мне пошло бы.
Это было сказано с такой неправдопободной и одновременно убедительной игрой, что Гурьеву представилось, что самым естественным жестом для Ани теперь было бы закрыться вуалькой и легко ударить его по руке черной перчаткой или вульгарной лорнеткой, однако Аня в своей серенькой толстовке с капюшоном, кажется, говорила серьезно. Гурьеву захотелось взять ее за руку, но он сдержался и только сказал:
– После, когда поедем в аэропорт, сядем рядом и поговорим, хорошо?
Столы блистали и ломились, звезды обступили столы, журналисты проталкивались между звезд. Фуршет, как пляж, ненадолго сделал всех равными, объединив не по статусу, а по вкусам: женщины накладывали на тарелочки фрукты и наливали в стаканы вино, мужчины тыкали вилками в мясо и тянулись стопками к водке. Гурьев вспомнил всю эту еду по прошлым светским мероприятиям, которые он посещал корреспондентом, как вспомнил утром обед в столовой детского лагеря, и обрадовался. Наложил себе ветчины, разных сыров, добавил жаркого, красной копченой рыбы, и сверху еще положил винограда и дольки грейпфрута, который спутал с красной рыбой; выпил водки, налил и выпил еще и потом налил в стакан красного вина. Все вокруг сделали вид, что это ничего. Зал наполнился звоном и смехом, и, на минуту оставшись наконец без работы, звезды с удовольствием ее обсуждали друг с другом и пытались всячески сторониться журналистов. Гурьев видел одну, другую звезду, у которой нужно было попросить телефон и договориться о встрече… видел, как черноглазая девушка-корреспондент разговаривала со звездой, у которой тоже нужно было… Гурьев, жуя и улыбаясь одной бородой, обводил взглядом зал… Аня, блестя глазами, пила из стакана… Человек, знающий больше всех, сидел один в дальнем углу с такой же, как у Гурьева, тарелкой, на которой было наложено все, строго ел и иногда поглядывал вокруг, как бы удивляясь, отчего все занимаются не тем, чем нужно. Гурьев поставил тарелку, допил вино, подошел к нему и представился. Тот тоже отставил свою тарелку и предложил выйти, чтобы покурить.
Снаружи темнота стремительно скатывалась с гор на побережье, огоньки их сигарет на глазах становились все ярче. Человек, знающий больше всех, рассказал Гурьеву, когда он готов пообщаться с ним в Москве, и попросил поскорее записать его номер, так как он очень торопится. Гурьев достал телефон, и тут ему начал зачем-то звонить веселый фотокорреспондент; Гурьев сбросил вызов, старенький «Андроид» подвис, Гурьев на всякий случай тонко и извинительно улыбнулся одной бородой, приготовился записывать снова, и тут ему позвонила меланхоличная черноглазая девушка. Они явно были лишними в этом сюжете. Мимо прошла провожатая, учительница из «Артека», не узнав Гурьева. Он снова сбросил вызов, его телефон завис где-то на минуту, человек, знающий все, строго и с удивлением смотрел на Гурьева. Наконец дело было сделано, и Гурьев, очень довольный, пошел обратно в зал, чтобы найти Аню. Но навстречу ему выходила красавица актриса, которая снялась в как раз вышедшем тогда сериале, с ней Гурьеву тоже обязательно нужно было поговорить, но от вол нения он не мог вспомнить, как зовут актрису.
Гурьев пошел к морю.
***
Море было большое. Даже по влажной гальке чувствовалось, как оно успело нагреться за день. Гурьев дышал одной тиной, сюда, в одну из маленьких лужиц, изрезавших линию побережья, кипарисовый и хвоистый пар не спускался. Впереди темнела треугольная, округлая, зубчатая по краям стена Аю-Даг, слева вверху сквозь лес ветвился игрушечный серпантин, справа в горизонт распахивалась черная бухта. Сгустились тучи, луны не было видно, стало тихо и безветренно, мелкая рябь изредка и робко вспархивала над тяжелым, черным и теплым пространством. Дотлевали последние рассыпанные в линию угольки зари, и от этого очень далеко вдали Гурьев заметил последний из приготовленных ему в тот день фокусов, когда черное и золотое непрерывно и незаметно переходили друг в друга, не меняя при этом своих цветов. Заря погасла совсем, как будто море, переливаясь за раскаленный за день горизонт, заполнило наконец противоположную сторону земли и потушило пылающий там пожар. Стало совсем темно и тихо. Лес, серпантин и гора почтительно и бесшумно попятились в темноту, и море и небо на секунду соединились так, что между ними не осталось никакого шва.
Гурьев расстегнул брючный ремень. Сзади послышались женские голоса. Он стянул одну штанину, неловко запрыгал по болезненно твердой гальке и оступился в воду, замочив по колено вторую штанину. Голоса приближались. В тучах возник просвет. Гурьев прислушался: это, подходя к пляжу, разговаривали Аня и красавица актриса, имя которой он не мог вспомнить. Выглянула луна, Аю-Даг сделала шаг вперед, вернувшись на свое место, серпантин ожил и снова пополз сквозь платаны, небо с чмоканьем оторвалось от воды, вернув на место тоненький, нарочно небрежный шов горизонта, оставленный напоминать, что у всего есть Творец, и он любит пошутить, и море сразу очнулось, всплеснуло и заиграло свой вечный, никогда не надоедающий мотив, затанцевало, заглядываясь на ровный ломтик луны и колючие шарики звезд, которые тут же вступили в игру и подхватили танец. Все было, как было всегда и как будет, когда нас не станет, и все громче было слышно, как, обещая непрерывное движение жизни на земле, непрерывное совершенство и, может быть, даже залог нашего вечного спасения, кому-то – наверняка не себе и уж точно не нам – рукоплещет прибой, рукоплещет прибой, рукоплещет прибой.
Гурьева окликнули. Он, не оборачиваясь, быстро стянул с себя вторую штанину и в рубашке и в трусах побежал по отмелине, бросился в воду и поплыл.
***
Спустя пятнадцать минут Гурьев, очень довольный, улыбаясь всей бородой и выжимая рубашку, поднимался навстречу Ане, которая стояла на полпути между пляжем и музеем, где был фуршет и к которому уже подъехали автобусы. Подойдя, Гурьев спохватился и первым делом попросил у Ани телефон, как автограф. Она ответила как-то неясно в том смысле, что ей неловко, и ушла.
Ночь дышала остывающим морем, отдающей последние целебные ароматы зеленью и хвоей, звезды дышали вином и усталостью и запрокидывали головы в синее, без куинджиевских изысков южное небо, где с довольным и добродушным видом дремали, мерцая и помаргивая, другие, неизвестные звезды. И Гурьев не стеснялся теперь ничего, даже такой концовки, так как он был филолог и служил в газете.
Но никто уже не стал делать вид, что это ничего; на обратном пути в автобусе и в самолете Гурьеву выделили отдельное место и сторонились его, как обоссанного. По полу салона по дороге в аэропорт каталась чудом уцелевшая фуршетная вишня, а в самолете Гурьев спал. Спали и счастливые дети в большом лагере у моря, которым подарили праздник; днем они носили зеленую форму, а ночью видели сны, и никто из них не знал, что море никогда не потушит пожар и все они вырастут солдатами.