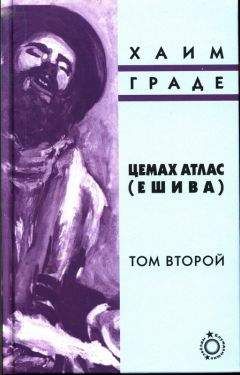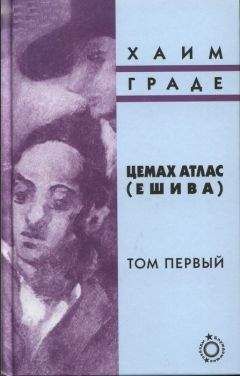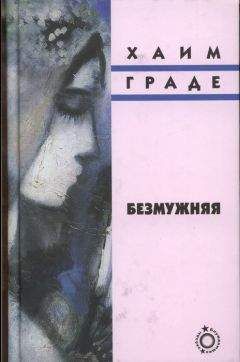Мейлахка рассказал, как мучил его глава группы реб Янкл, заставляя вместе с другими учениками не допускать старосту благотворительной кассы на его место в синагоге. Затем реб Янкл еще и заставлял его идти к тому же самому старосте на субботу, как неделю и две недели назад. Так вот, когда он пришел в пятницу вечером на ужин, реб Зуша Сулкес как раз дочитал кидуш до середины. Он прервал кидуш, схватил Мейлахку за воротник и вышвырнул из дома, пожелав ему провалиться сквозь землю вместе со всеми мусарниками. Мейлахка так расклеился, что не стеснялся ешиботников, сидевших над томами Геморы и могущих увидеть, что он плачет, как маленький. Он тер кулачками глаза, полные слез, и всхлипывал во весь голос, говоря, что виновен во всем реб Цемах, уговоривший его в Вильне ехать в Валкеники в начальную ешиву новогрудковцев. Поэтому нынешней зимой он приехал в Нарев в большую ешиву. Если бы он учился в Радуни или в Каменце, ему бы не пришлось сталкиваться с таким множеством бед.
Перегнувшись через стендер, Цемах погладил своей широкой ладонью заплаканное лицо Мейлахки, как когда-то в местечке.
— Если бы вы тогда не поехали со мной в валкеникскую начальную ешиву, вы, может быть, вообще не остались бы при Торе. Я прослежу за тем, чтобы вам нашли на субботу место еще лучше, у другого обывателя.
От слез Мейлахка перешел к обидам и ответил, что больше не будет ходить есть в домах обывателей ни в будни, ни по субботам. Он хочет есть на кухне ешивы, как его земляк Хайкл-виленчанин. Кроме того, он не хочет тратить целые дни на беседы о мусаре. А если ему не пойдут навстречу, он уедет в какую-нибудь другую ешиву.
Сразу же после ухода ученика глаза Цемаха начали блуждать по синагоге и увидели полтавчанина, стоявшего в одиночестве за бимой. Похоже, что Янкл был в плохом настроении. Он страдал от того, что проиграл войну со старостой благотворительной кассы и к тому же стал отверженным в собственной ешиве.
— Что с вами происходит, полтавчанин?! Вы уговариваете юного паренька, чтобы он помог прогнать старосту от стендера, а потом посылаете его к тому же самому старосте на субботу, чтобы он его вышвырнул? — Цемах развел руки, показывая, насколько он удивлен.
— А почему нет? Пойдя к старосте на субботу, Мейлахка-виленчанин показал образец мужества, — ответил Янкл, и глаза его загорелись под сердито наморщенным лбом. — Танаи ходили по рынку в филактериях во время гонений против иудаизма, когда римляне, да сотрется их имя, пытали за это до смерти. Поэтому мы должны, по меньшей мере, не бояться ходить с кистями видения наружу и не пугаться смеющейся над нами улицы.
— Вы говорите это мне? — посмотрел на него с еще большим удивлением реб Цемах.
— Напоминаю вам ваши речи тех времен, когда я был вашим учеником, — Янкл вытащил свое пальто из кучи одежды, висевшей на перилах бимы. — Тому, чему научился у вас, я учу и моих учеников, но у этого Мейлахки-виленчанина из вашей валкеникской начальной ешивы хватило наглости сказать мне, что реб Цемах Атлас тоже раскаялся в том, что изучал мусар вместо того, чтобы изучать Талмуд и комментарии к нему. Зундл-конотопец, со своей стороны, кричал мне, что я обезьянничаю, подражая вам. Получается, что и младшие, и старшие ученики отрицают ваш путь, а тут и вы сами являетесь ко мне с претензией, что я веду себя так, как меня учили, — сказав это, Янкл сунул ноги в пару своих или чужих потертых галош и, как вихрь, вылетел из синагоги.
Старшим из учеников реб Цемаха был Реувен Ратнер, выделяющийся своими способностями к учебе, добрыми качествами и музыкальностью. Когда он пел, на глазах у него выступали слезы. Излагая какую-нибудь идею, он сгибал и разгибал свои длинные пальцы, словно нащупывал мысли руками. Когда говорил кто-то другой, он слушал с такими сияющими глазами, что в их теплом свете можно было греть руки. Только когда Мойше Хаят-логойчанин проповедовал свои идеи за едой на кухне, Реувен Ратнер улыбался с пренебрежением и одновременно с состраданием. Ему было жаль заблудшего товарища. Это выводило логойчанина из себя, и он начинал говорить как вероотступник, нарушающий заповеди не по небрежению, а назло всем. Тогда Реувен Ратнер переставал улыбаться и тянул себя за длинные мочки ушей, как будто хотел предостеречь свои уши, чтобы они не слушали богохульств.
Несмотря на все достоинства, Реувену Ратнеру не везло с женитьбой. Отцам невест он как раз нравился, но сами невесты обычно думали о том, что скажут их подруги, а девушкам не нравился этот парень с приподнятыми худыми плечами, надутыми щеками и большими, как у татарина, ноздрями. Недавно ему снова предложили хорошую партию. Родителям невесты он понравился, но девица продолжала ломаться. Вот он и сидел подавленный над томом Геморы, изучая ее безо всякой охоты. Разговаривать об этом с товарищами ему было неудобно, но со своим бывшим главой группы реб Цемахом Атласом он пару раз поговорил о том, что он неудачник и что сватовство его всегда заканчивается одинаково.
— Может быть, я должен как раз быть доволен, что мне не везет с женитьбой, потому что из-за этого на мою долю выпадает меньше соблазнов.
И реб Цемах Атлас не знал, как ему оправдаться за то, что невесты ему не отказывали.
Еще больше огорчений доставлял реб Цемаху Атласу его второй ученик, Шимшонл-купишкинец, выросший фанатичным святошей. Он все время изнурял себя постами и другими ограничениями и постоянно бегал окунаться в микву. Раньше Шимшонл брал на себя обет молчания только на месяц покаяния элул, а теперь стал молчать целыми неделями и посреди года. Только его высохшие губы беспрестанно беззвучно шевелились: он шептал про себя заклятия против нечистой силы. Маленький, с водянистыми глазками, с колючей рыжей бородкой и в пожелтевшем арбеканфесе до колен, купишкинец ел не больше птички, и поэтому глава ешивы опасался, как бы тот ненароком не заснул от слабости. Глава ешивы умолял купишкинца, чтобы тот каждый день выходил прогуляться, поговорить немного с обывателями, и о мирских делах тоже. Но купишкинец шептал в ответ, что у него нет на это времени. Он еще не закончил читать «Корбонес»[142] и с чтением ежедневной порции псалмов тоже отстает. Кроме того, он снова должен бежать в микву, ибо утратил ритуальную чистоту. На это глава ешивы говорил, что покаяние через самоистязание — это путь простого человека. Сын Торы искупает свои грехи тем, что сидит и учится. Такова стезя, указанная Виленским гаоном и его учениками. Это особенно верно в нынешние времена, когда поколение слабо, и чрезмерные жертвы на пути служения Господу могут принести больше вреда, чем пользы. Однако Шимшонл-купишкинец даже не слышал толком, что ему говорили. Его губы шевелились быстро-быстро, а из его водянистых глазок выглядывал страх перед нечистой силой, чертями и дьяволицами.
— Раньше я думал, что он дурак. Но для самого себя разум есть и у дурака. Поэтому я пришел к выводу, что купишкинец — просто-напросто сумасшедший, — говорил логойчанин на кухне ешивы, оскверняя ее бедный кошерный стол своим нечистым смехом, полным желчи и ненависти связанного Асмодея. — Купишкинца даже ангел смерти не сумеет укусить, потому что ведь каждому известно, что, покуда еврей находится в процессе чтения молитвы или изучения Торы, даже ангел смерти не может забрать его душу, а Шимшонл-купишкинец только и делает, что молится, молится, молится… Но я должен признать, что именно он, этот безумец, мне нравится. Наше учение — это, по правде говоря, учение отказа от всего. Так что надо либо идти по пути купишкинца и таки отказываться от всего, либо уж но моему пути и ни от чего не отказываться. Только мы двое — последовательные новогрудковцы, в противоположность нашему бывшему главе ешивы Цемаху-ломжинцу, который оказался слабаком и к тому же двуличным человеком. Уйдя от Торы, он не ушел от нее полностью, а вернувшись якобы с покаянием, он все еще не может стать набожным до конца, как этот купишкинский безумец.
После этих кухонных речей логойчанина ешиботники снова стали приходить к ломжинцу, упрекая его в том, что он не позволяет выгнать из ешивы этого безбожника. Реб Цемах Атлас выглядел смертельно усталым, как будто ему только что пришлось пройти пешком огромный путь. Он отвечал, что пока логойчанин считается учеником ешивы, он все-таки еще воздерживается от определенных поступков. А вот если его выгонят, он скатится на самое дно. При этом в глазах вернувшегося с покаянием горел черный мрак, а его борода свисала безжизенно.
— Неужели вы не понимаете, господа, что логойчанин только и дожидается, чтобы его выгнали? Он не раз говорил мне, что боится шагнуть в светский мир, раскинувшийся за пределами ешивы, потому что он не умеет зарабатывать на жизнь и не знает, как вести себя со светскими. Потому-то он и хочет, чтобы его выгнали взашей из ешивы, чтобы у него не осталось иного выхода, кроме как осквернять Имя Господне прилюдно, на глазах у всего мира.