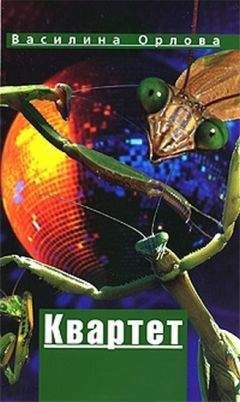— Так вы что, хотите копию? — Молоденькая архивистка не понимала, кажется, ни слова из того, что ей говорили.
— А где ж я тебе его найду, о рождении, все документы утеряны, — бубнила бабка испитым голосом, разбираясь со второй напарницей, — мне о смерти, только предъявить в собес, сестра уж три года как умерла.
— О разводе.
— А я вам что! — горячилась девушка. — Потеряли — восстанавливайте.
— Мне только предъявить.
— Свидетельство о браке там, где заключали брак, — нравоучительно заметила мне архивистка. — Где вы расписывались?
— Не положено.
— Ну дак а где я вам его возьму.
В руках у бабки трепетала холщовая сумка, в которой что-то звякало, а за спиной возвышался темный лицом, крупноглазый молодой парень, он поддакивал:
— Предъявить, — с ярким нерусским акцентом, и сама собой напрашивалась версия, что пьянчужку сейчас прокатят по полной программе.
Порывшись в объемистых, распухших от людского горя и негоря папках, молоденькая архивисточка сунула мне в руки бумажку с длинными, словно счета Ариадны, рядами цифр:
— Идите в банк.
— А где ближайший?
— На Полярной.
Взяла бланк, присела к пыльному фикусу «Сбербанка» у окна во всю стену, начала кропотливо переносить циферки. Не хочется ошибиться — ИНН, лицевой счет, расчетный, БИК, КБК, ОКАТО — зачем им столько?
Пока заполняла, набежала очередь. Пристроившись в лисью спину и вязаный берет, с привычной посасывающей под сердцем тоской оглядываю зал. Хилая мишура провисла над каждой кассой, а мужик на стремянке сосредоточенно вкручивает что-то лампочке — должно быть, перегорела. Деды в пальто, бабки в платках и беретах неожиданно заполнили все пространство. У левого окошка разгорался скандал.
— Не буду я, еще что удумали. Вы меня уже кинули. Кто? Вы, «Сбербанк», кто! Я ведь одна из первых была по этому депозиту. И что получила? Шиш.
— Да ну не всем же везет, — смущенно, примирительно пробормотал кто-то.
— Эх, всю-то жизнь нас обманывали и сейчас обманывают.
— А вы, женщина, не возмущайтесь! Я тоже повозмущаться могу.
Подавая бланк и пятьдесят рублей, я невзначай обратила внимание на прозрачные, все в золотых кольцах, руки кассирши. Пальцы не толще карандашей ловко порхали по клавишам, отбита печать, одна бумажка легла в паз, вторая вспорхнула на стойку.
— Всё? — отозвалась я.
Посмотрели с непониманием, невидяще:
— Следующий.
Из архива испитая исчезла, люд вообще схлынул, только женщина в красном пальто и синем с белым шарфике все подталкивала работнице кипу бумаг. Та, перебирая гербовые листы, кивала и уточняла:
— Так… А умирает она у нас под какой фамилией?
Кто-нибудь стучал в дверь, Константин или Надежда откликались:
— Аминь!
Все еще не могу себя заставить тоже говорить «аминь» в таких случаях.
Входил Григорий:
— Это вам. Это тебе, а это, — рука появлялась слева, я сидела спиной к двери и к происходящему в комнате, так что иной раз невольно вздрагивала, — тебе.
На столе появлялся мандарин.
Григорий выходил, а Надежда говорила:
— Бутерброд с рыбой хотите?
Я отказывалась, и она ставила блюдце с бутербродом на подоконник.
В окне по-прежнему белел скат крыши, только у самого низа, где сорвалась снежная шапка, проглядывала зеленая кровля. И небо потихоньку меняло цвет, становилось все синее, все насыщеннее. Близилась весна. Февраль — по-украински «лютый». И мне вспоминалась бабушкина присказка: «А лютуе вин тому, що на свити долго жити не приходится ему». И еще: «Придет марток, надевай трое порток».
Весна еще связана с повестью Шмелева «Лето Господне». Когда я вспоминаю ее, а когда, в иные вёсны, — может, и нет. Я как-то писала сочинение в классе, где стояли в горшках папоротники, герани и еще вот эти, которые пускают длинные узкие листики и отбрасывают усы, от них тоже происходят в свою очередь пучки длинных острых листьев. И солнце светило косо, луч падал и на пол, и на учительский стол, и на стенды «Пиши правильно», только портрета степенного, дородного, седого, похожего на русского мужика Маркса над черной доской, где белели темы сочинения, луч не достигал. И пахло тоже, кажется, мандарином или особенным весенним горячим чаем, крепким, густым, настоявшимся чаем с сахаром. И в книге, которая лежала передо мной, звонили колокола, синело небо, росла трава.
«Ты пишешь об отношении столицы ко всем тем операциям, которые проходят здесь, в Чечне. Оно меня не удивляет. Для столицы здесь война уже закончилась, идет контртеррористическая операция. Еще эту войну называют миноразведывательная и партизанская. Здесь проводят «зачистку» деревень и сел. Чеченцы проходят паспортный режим. Контролируются передвижения. В особенности те, которые нацелены за пределы Чечни.
Но так или иначе, проехать сюда можно запросто. Те блокпосты, которые выставляются внутренними войсками (ВВ) и МВД, не всегда могут гарантировать чистую проверку. Когда глядишь на то, как проводят «шмон» автотранспорта, есть впечатление, что оружие и наркоту, если имеется, провезти легко. Но, с другой стороны, оружия здесь своего хватает, даже очень хватает. Месяца два назад на ВМГ (войсковая маневренная группа) была зачистка деревни Алироя «вэвэшниками». Какие только боеприпасы там не находили. Начиная с образцов времен Великой Отечественной войны и заканчивая новым оборудованием и эффективным взрывательным веществом — тротил, пластид и другие смеси. На второй день зачистки просили муллу созвать взрослое население и, пока проверяли документы, ходили по избам. И таким образом нарвались на двоих мужиков. Те дали сопротивление, в результате чего один «груз-двести», другой «груз-триста» со стороны наших потерь».
Свадьба Евгения и Ани прошла как все события такого рода. С надоедливым фотографом, позирующими молодоженами, настырно веселящимися гостями и дежурно волнующимися родителями. Мы сидели с бабушкой бок о бок, и не знаю, о чем она думала, глядя на воздушные шарики и зеркала, в которых отражались присборенные шторы.
На следующий день ни Жени, ни Ани почему-то не оказалось дома — они сразу переехали, убыли, — и мой халат, о котором я про себя ворчала, что неправильно вот так брать без спросу, сиротливо висел на спинке стула, и никто его больше самовольно не надевал, и никто не вламывался ко мне в комнату посреди спокойного перебора клавиш и не говорил: «А телефончик не у тебя?», и никто не кричал из кухни: «Можно, я съем твою шоколадку?», на что приходилось деланно веселым голосом громко отвечать: «Ну конечно!», и мама приходила с работы и бродила по комнатам какая-то погрустневшая.
Я вошла в комнату брата. Телевизор уже был увезен — ну еще бы, чтоб его забрали не в первый день! Ведь что же делать, если нет телевизора? — а пыль, которая скопилась под ним, так и лежала слоем, да еще какая-то чепуха, не то фантик, не то просто бумажка. Плед еще не забрали, и вообще кровать выглядела так, словно с нее вот только, две минуты назад, кто-то встал. Я присела на плед и в абсолютной тишине, — лишь часы, уже снятые со стены и готовые к переезду, тикали — шли прямо так, лежа — подумала: «Пусто». Вещи валяются как попало. Вдруг бросилась в глаза их непригодность, ущербность. Обыкновенная пластмасса, или дерево, или пластик, или там керамика: в жизни каждого таких — миллион, но они ничего не стоят и после смерти пропадают, как не было.
Лишь стронешь порядок — и все, труха. Сдвинешь слегка их утлое предназначение, и — разрушение и разор. Нарушился хрупкенький механизмик налаженной на года жизни. Взрыв — и рухнула стена, и вся внутренность, как в барби-доме, наружу. Ну да, вот часы стучат — упрямые. Я поглядела им в усатое лицо, стрелка в агонии дергается на месте, и ковер висит, и книги, вчера читанные, и аквариум, только корм некому больше рыбкам подбрасывать, да высыхает тина, и остаются на стеклах день за днем, ниже и ниже, полоски белого известкового налета. Все сгинуло, сгибло.
Я встряхнулась: вот развела канитель. Да они только пустили тот самый ус, от которого остренькие листочки брызнут во все стороны. У них новое, живое, молодое, веселое. Ну и скоро, наверное, на новоселье позовут.
Перед Сретением Алексей позвонил:
— Ты завтра на работу как, собираешься?
— Ну да.
— Знаешь, мы вообще обычно по праздникам не работаем. Правило у нас такое. Но ты, если хочешь, можешь прийти.
— Нет, я уж тогда лучше в среду.
В среду так в среду. Вновь делаю тот же путь. Падает и падает снег, изузорил черные кованые ограды, украсил белыми полосами, проявил графику деревьев и снова отбросил Москву на много столетий назад. Как ни скребут дворники пехлами, а прохожие идут, каждым шагом отслаивая аккуратную аппликацию снежного пласта, так что приходится вдвое чаще перебирать ногами, чтобы проделать ровно ту же дорогу — совсем как Алисе в Зазеркалье или где там. Следую по Рождественскому бульвару мимо полуподвального ресторана «Перуанская кухня», мимо коммерческого банка, щитка «Горящие туры», увешанного острым гребнем сосулек, мимо автомобилей и еще одного отнорка — «элитное серебро 925 пробы» — и подхожу к железным воротам, запыхавшись от подъема, сворачиваю как раз перед двухэтажным приземистым зданьицем, некоторые окна заставлены картоном и фанерой, другие разбиты — видно, давно уже нет в нем официальных жильцов, может быть, обитает кто-то на мышиных правах. Во дворе сразу, будто включили, настала тишина. Словно нет позади, в трех метрах, широкошумного Рождественского бульвара, не снуют автомобили, не идут люди по случаю хоть и снежной, но мягкой погоды в расстегнутых пальто и в шапках, сдвинутых набекрень, платках, сбившихся на сторону, и шарфах, развевающихся по ветру.