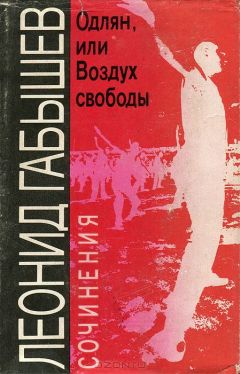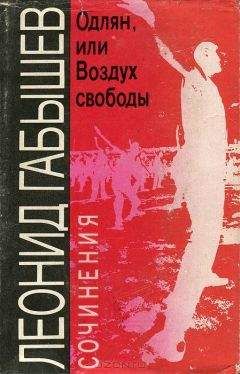Разводящий не закрывал дверь, и Глаз, чувствуя на себе его взгляд, сделал шаг ко второму. «Братан, здорово, чего такой грустный?»— и, выпустив очумевшего пацана из объятий, повернулся ко всем ребятам.
— Ну, как вы без меня?
Все молчали, и разводящий спросил:
— Он сидел у вас в камере?
Стоя спиной к разводящему, Глаз моргнул пацанам. Его поняли.
— Сидел.
— Конечно.
— Он с нашей камеры.
Разводящий захлопнул дверь и пошел сверяться в картотеке.
Только теперь Глаз заметил Гену Медведева. Он стоял возле шконки в углу камеры.
— Привет.
— Здорово.
— Как живешь? — громче спросил Глаз.
Он рассчитывал, если Генка живет не очень, его визит изменит отношение к парню.
— Хорошо, — негромко ответил Гена.
— Как дела? — тихо спросил Глаз.
— Плохо. Мишка колонулся.
— Так… В какой камере Робка?
— В шестьдесят четвертой.
Благодаря тюремному телефону Глаз знал, что не так давно из зоны в тюрьму привезли его второго подельника Робку Майера, а Робке в колонии оставалось жить два дня до досрочного освобождения. По вине Глаза вместо свободы Робку раскрутят, и Глаз решил: если удастся переговорить с Генкой, отшить Робку. Взять преступление на двоих.
— Я сейчас с ним перебазарю, — зашептал Глаз, — а не успею — за мной сейчас придут, — передай ему, чтоб отказывался. Ты сказал, что он с нами был?
— Они об этом знали.
— Ты это же показал?
— Куда мне было деваться?
— Ну ничего, откажешься от показаний.
Глаз залез под шконку — трубы отопления в корпусе малолеток проходили над полом — и только переговорил с Робкой, как открылась дверь и разводящий крикнул:
— Петров, на выход!
Дойдя до дверей, Глаз обернулся. Пацаны смотрели на него. Он поднял вверх правую руку и, сказав: «Покедова»,— вышел.
Разводящий поругал Глаза за обман и отвел к малолеткам в другую камеру.
С месяц назад воспитатели убрали из нескольких камер самых отчаянных парней и посадили в одну. Глаз оказался шестым. Четверо тюменские, а Глаз и Подвал, у него одна нога — сухая, и он без костылей ходить не мог, — из районов.
Малолетки о Глазе наслышаны. Они представляли его здоровым, сильным и разочаровались. И стали игнорировать. Не замечают — и все. Они, городские, знавшие всю блатню Тюмени, должны перед ним преклоняться? Не бывать такому. И его, неизвестно как вышедшего в шустряки, они и за равного принимать не будут. Парни были самоуверенны и зоны не боялись. На свободе шустрили, думали они, в тюрьме живем отлично и в зоне не пропадем. Иногда просили Глаза рассказать о зоне. А раз Масло — тюменский парень, на свободе не в меру шустривший, хотя и был щупленький и ростом не выше Глаза, — спросил:
— А сам как в зоне жил? Вором или активистом?
— Как я жил? Вором не был. В активе тоже не состоял. Вы что, думаете, если придете в зону, сразу ворами станете или лычку рога прицепите?
Дни шли, и постепенно ребята к Глазу привыкли. Хотя и держались высокомерно. Но тюремная обстановка заставляла обращать на него внимание.
Глаза часто по трубам спрашивали, и парням приходилось приглашать его. Если в камеру заходили работники тюрьмы, разговаривать начинали с ним.
Ребята любили рассказывать забавные истории. Чаще всех травил были и небылицы Масло. Сидел за хулиганство и срок ждал небольшой. На свободе у него был друг по кличке Репа.
После прогулки Масло, сев на шконку и засмолив здоровенную козью ножку, сказал:
— Я сейчас про Репу расскажу. Подохните со смеху. Мы засосали тогда по пузырю и канали по улице. На остановке — глядь — стоит красивая чувиха. Разукрашенная. Распомаженная. Расфуфыренная. Репа говорит: «Постойте. Я сейчас». Он подкатил к чувырле и громко: «Ах ты шалава! Потаскуха! Профура! Где ты шляешься? Опять шлея под хвост попала? Разукрасилась! Мать тебя третьи сутки ищет, по всем шалманам пробежала, не найдет тебя. Куда ты забурилась? Топай домой, лярва». Деваха вся красная и еле вымолвила: «Отойдите, пожалуйста, я вас не знаю».—«Ах, не знаешь! Вот придешь домой, мать тебе задаст «не знаю». Люди стоят на остановке и слушают, а он поливает ее. Девка крутится, скорее бы подошел автобус или мент показался. Но ни автобуса, ни мента. Тогда остановила проходившее такси и уехала. Мы потом заняли денег и еще вмазали, надрываясь над Репой. Ох, и чудил же он».
Подвалу тоже захотелось потравить, и он начал:
— Закосил я на дурака, и меня в Тюмень вернули. Привозят к профессору Водольскому, и он начинает меня расспрашивать. Откуда я и так далее. Я отвечаю. Стараюсь почуднее. Потом спрашивает: «А ты Пушкина знаешь?»— «Знаю, — отвечаю, — в одной школе учился. У меня правая нога сухая, а у него левая короче. Я с ним за одной партой не сидел, но знал хорошо. С одного класса все-таки». — «А что можешь о Лермонтове сказать?» — спросил он. Ну я и понес. «Лермонтов, это который на стройке сторожем работал? Если он, так я с ним выпивал даже. Он все бутылки собирал. Жена от него за пьянку ушла. А так неплохой был. Когда трезвый. Только трезвого-то его не видел».
Профессор перестал расспрашивать и постукал молоточком по коленке. Я ему: «Вы и по другой постукайте»,— и задрал штанину.
Подвал продемонстрировал пацанам.
— «Ну, — говорю, — постукайте и по этой».— Ребята посмотрели на сухую ногу Подвала. Нога — не толще руки, и колена не видно. Подвал взялся левой рукой за ступню, поднял ее до головы и начал крутить ногой. Она поворачивалась во все стороны, будто не было суставов. Он повращал ногою и говорит: — То же и Водольскому показал, потом прислонил ступню к левому плечу, вот так, и стал водить правой рукой по ноге, будто по струнам скрипки, насвистывая: «Была бы шляпа…» Профессор заключил, что я здоровый. Не вышло у меня с дураком, — Подвал вздохнул, — а я-то ду-у-мал — сумасшедшим признает.
Кончилось курево. До отоварки — неделя. Надо просить у малолеток и договариваться с дубаком, чтоб передал. Но Глаз предложил:
— Давайте наведем в камере порядок: выскоблим пол, аккуратно, как в зоне, заправим кровати и вызовем воспитателя. Ему понравится, и он принесет.
Дубак давно прокричал отбой, а ребята скоблили полы. Половые доски черные, и парни в окне разбили стекло и принялись им скоблить. Надзиратель несколько раз предупреждал пацанов, чтоб спать ложились, но они упрашивали, и он махнул рукой.
Утром заправили кровати и убрали кружки с труб.
— Ну, — сказал Подвал, — зовем воспитателя.
Юрий Васильевич, добряк воспитатель, перешел работать во взрослую колонию, и пришел старший воспитатель майор Рябчик. Осмотрев камеру, восторга не выразил.
— Что звали? — спросил.
— Павел Семенович, хороший у нас порядок?
— В других камерах не хуже. Чего хотите?
— Мы хотим, — сказал Масло, — курева.
— Бросьте курить да еды больше покупайте. — Он помолчал. — Хорошо, к вечеру будет. — Рябчик еще помолчал. — Ну, Петров, как дела?
— Дела, Павел Семенович, плохи. Посмотрите, у меня уши опухли.
Перед ужином надзиратель подал две пачки махорки. Парни взревели.
— Мало, — кричал Масло.
— Вот петух, — орал Подвал.
— Пидар, — гаркнул Глаз.
После ужина Глаз два раза стукнул по лампочке. Минут через десять она потухла, и парни загоготали. В темноте полетели подушки. Кто-то швырнул на пол шахматы, и фигуры запрыгали по полу. В камере стоял визг. Дежурный принес новую лампочку.
— Так, — сказал Глаз, — я сейчас Рябчику мат поставлю.
Он поднял с пола черного короля и запустил в дверь.
— Пидар-Рябчик, это тебе шах.
Снова схватил швабру и постучал по лампочке.
— В темноте лучше поставлю.
Надзиратель открыл кормушку.
— Что, опять перегорела? Вот напишу рапорт.
— Пиши, пиши. — И Глаз с силой пнул тазик от бачка с питьевой водой. Тазик перевернулся, обдав дубака брызгами.
— Петров, — сказал дубак, — я сейчас тебе поставлю мат. Пойдешь в карцер новую партию играть.
В карцере тепло, на дворе — весна. Глаза тянуло на улицу.
В соседнем карцере сидела женщина и часто стучала крышкой параши. Стук звонкий. «Как она так звонко стучит?» Глаз подошел к параше и стукнул крышкой. Удар получился глухой.
— Соседка, как ты так звонко стучишь парашей? — крикнул Глаз. — И что, у тебя параша автоматическая?
— Я к крышке привязала резинку, — ответила женщина. — Подниму, а затем отпускаю. Дубак, падла, пусть рехнется от этого стука.
— Дубак не рехнется, мы — точно. Ты где резинку взяла?
— Где, — женщина засмеялась, — из трусов выдернула.
— Они у тебя не спадают?
— Я их узлом завязала.
— Тебя как зовут?
— Мария.
— А сидишь за что?