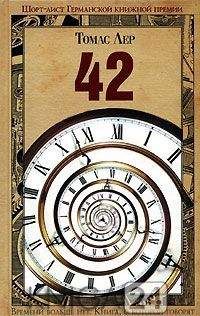— По-моему, ты хотел идти в Собор, а оказался здесь.
— Зачем мне Кальвин?
— Не помешал бы, по крайней мере в логическом смысле. Пусть все заранее устроено, но мы можем принять решение.
— Ты что, ходишь за мной по пятам? С каких пор?
— Я без оружия. Интересуешься тиграми?
— Напоминают мне о детстве.
— Ты рос в зоопарке? Или в Индии?
— Индия! А ведь мы могли бы дойти до Индии по суше.
— А завтра сможешь полететь на самолете. — Стюарт Миллер, который, оказывается, следил за мной всю дорогу до самого Музея естественной истории и даже здесь, незаметно прокравшись до витрины с двумя клыкастыми тигриными чучелами, теперь протягивает мне руку, словно вручая билет на самолет. Сдается, он хочет мне еще что-то вручить, нечто более громоздкое, чем посадочный талон. Тигры — это время в веригах, которое в любой момент грозит вырваться и все уничтожить. Это огонь, бесцеремонная мощь, не знающая сомнений. Брошенный на произвол судьбы беззащитный ребенок мечтает о необузданной силе, хотя (и потому что) видит ее за решеткой. Нас выпотрошат и набьют соломой на Пункте № 8. И мы попадем в музей, в «Микрокосм» — ЦЕРНов-ский центр для посетителей, семьдесят экспонатов с табличкой «Несчастный случай на производстве», подобно этим тиграм, белкам и пеликанам, куницам и ширококрылым застылым орлам и беркутам в их витринах с подсвеченными искусственными ландшафтами. Монады, говорит Стюарт, личные миры, ограниченные и не соприкасающиеся друг с другом. Нет-нет, он не верит теории Хаями, хотя ему кажется весьма благоразумным ввести в игру высший разум именно в тот момент, когда начинаются противоречия. Но он хотел бы кое-что мне объяснить.
— Про существование «Группы 13»? Может, они засеяли Пункт № 8 сотней мин и потому мне лучше туда не ходить?
«Группы 13» никогда не было, невозмутимо отвечает Стюарт. Ликвидацию телохранителя-садиста Торгау замыслили и исполнили несколько человек, которые объединились специально для этой операции и расстались по ее окончании. Однако его там не было. Это не его путь. Ему претит оружие, да и обращаться с ним он не умеет. Зато, будучи почти что профессиональным скалолазом, он годится для иных задач, вроде головоломной экспедиции в шахту детектора ДЕЛФИ.
— С которым все, как выяснилось, в порядке! — говорю я громко, а вероятно, и грозно, чувствуя поддержку медведя гризли, стоящего на задних лапах и с такими неестественно поблескивающими голубыми глазами из стекла, будто у него внутри — ослепительный обломок ледника.
С каждым из миров по отдельности все в порядке. Вопрос в том, в какую из альтернатив мы хотим попасть. К медведям и волкам (5-я витрина), к антилопам гну и буйволам (6-я витрина), к кабанам (7-я витрина), к совокупляющейся человеческой парочке (8-я витрина, классическая шутка зомби), к мертвым или к живым.
— Что ж, теория музея здесь как нельзя более кстати, — говорю я поверх голов школьников, в основном мальчиков, столпившихся в темном проходе между большими мерцающими витринами.
— Да нет, это гораздо мощнее, — возражает Стюарт. — Не просто один-единственный музей копий. Их миллиарды. И значит, тогда, на Пункте № 8, мы ничего не выиграли, но почти все проиграли. Мы оказались в тупике, на ложной ветви траектории.
На отпиленной ветке времени. В сухостое, который, конечно, разветвляется, но при условии движения семидесяти и только семидесяти зомби. Получилось, что мы вошли внутрь одной из витрин, например, к отдыхающим на картонных скалах гепардам, и никогда не сможем отыскать дорогу обратно, выбраться из искусственной саванны с ее ложным светом, пыльными тушканчиками, белесо-голубым небом, нарисованным на натяжном потолке.
Огромные часы свисают в конце аллеи из светящихся ложно-миров. 12:47 — время воскресения. Меня вдруг охватывает беспокойство, словно я могу что-то упустить. Кудрявый австралиец это замечает и тоже смотрит на часы, на настоящее и ложное время зомби на своем запястье:
— Каниси покончил с собой, потому что кое-чего не мог понять.
— Того, что в шахте детектора?
Стюарт словно не слышит вопроса. Кажется, он безуспешно борется сам с собой. Для меня полнейшая загадка, впрочем не вызывающая у меня никакого интереса, почему он так настойчиво пытается мне открыть то, что я, вероятно, пойму не лучше его суицидального напарника-скалолаза Каниси.
Выйдя наружу, мы еще некоторое время ковыляем вместе по улице Малану, отмеченные печатью нашего последнего ложно-полуденного света, последнего ослепления перед ЭКСПЕРИМЕНТОМ ФЕНИКС, в котором я твердо намерен участвовать. А как, интересно, я планирую вернуться домой, любопытствует напоследок Миллер. Какой дорогой? Он знает, что я делал пересадку в Цюрихе. Итак, если нам удастся вернуться так глубоко назад, что сухой сук войдет в древо времени, поеду ли я из Женевы в Мюнхен на поезде? И скорее всего, не стану выходить в Цюрихе ради прогулки по городу? Но если предположить, что я все-таки не смогу поехать, то вполне логично ожидать, что я пойду пешком по берегу. И дойду когда-нибудь до Бюрклиплац, где мы договорились встретиться с Борисом и Анной, если произойдет что-то необычайное. (Неужели я ему об этом рассказывал? Наверное, в гостях у фонтанирующего фараона, после четвертого коктейля.)
— Предлагаешь там встретиться? Если ФЕНИКС не получится?
Нет, при таком исходе он не пойдет в Цюрих. Все, что нужно увидеть и отыскать, все уже есть на Бюркли-плац, если только…
— Если что?
— …если мы не вернемся. Это ребус, знаешь, такая игра — «Найди ошибку на картинке», — говорит он мне на прощание на бульваре Философов, которыми мы так и не стали.
Камышово-песочная полутьма наполняет мой гостиничный номер, входная дверь которого с 14 августа 2000 года приоткрыта настолько, что туда способен проскользнуть нейтрально настроенный мужчина. Быть может, замок сломан. Или обнаженная графиня под шелковым одеялом нарочно выдумала столь игривую декорацию для свидания; в пользу этой гипотезы говорит и расположение комнаты — в торце коридора с алой ковровой дорожкой в скипетрах и коронах, а также (к великому сожалению, уже много лет тому назад) растранжиренное приветствием царственное возбуждение ее плоти. Она зачем-то с головой накрылась одеялом; впрочем, я не помню, чем занимался, когда Борис с Анной покинули мою кровать. Уютно ныряю в камышовые заросли, жирный селезень безвременья приземляется на пуховую подушку, дабы немного передохнуть перед метаморфозой, хотя бы на один ложно-часик дать отдых переутомленным глазам, чтобы они не подвели меня на Пункте № 8, грозящем обратить всех и каждого в чертову дюжину. Страх смерти. Восхищаясь отвагой ЦЕРНистов, я задаюсь вопросом, не скрывается ли в описанном ими столкновении с черным шаром, адским кругом или чем бы то ни было определенное сладострастие, своего рода вторичный доход от копирования, о чем они предпочитают умалчивать. Графиня под одеялом, в заточении своего нехронифицированного тела наверняка разбирается в этом вопросе; да может, они уже полдесятилетия пребывают в экстазе, они, ВЫ, миллиарды болванчиков, в ВАШЕМ грандиозном вечном мгновении, границы которого можно почувствовать, вступая в копировальную область на Пункте № 8. Нашему брату остается безответная похоть, изнурительные скачки вверх по рыбоходу, хлопая хвостом, или точнее — паника паучьего самца, который как угорелый улепетывает от парализующих челюстей черной вдовы всех времен. Опять сижу напротив зеркала, на кровати, опять каталог отражений, в футболке, без футболки, в шортах, без шорт, со вскинувшим головку кучером «к вашим услугам, графиня», со вновь задремавшим молодчиком — мои собственные зомби-значения перетекают друг в друга, рыжеволосая кряжистая горилла, лысоватый юркий кобелек с эспаньолкой и маслянистыми глазками, поблескивающими за стеклами очков, и, наконец, зрелый Адонис цвета оливкового масла с орлиным носом, каким я всегда желал бы представать перед Анной. ПОСМОТРИТЕ НА МЕНЯ. И в тот же момент моя волновая функция спадает, я тот, кто я есть, сейчас, когда, стуча зубами в теплом камышовом гнездышке моей комнаты, ежась от страха и сомнения, заползаю под одеяло к полумертвому женскому телу. Предположим, черты лица не важны. Скрывающие их волосы изменили цвет из светло-каштанового до лениво-золотистого, стали в три раза длиннее, изливаясь на неожиданно окрепшее и округлившееся плечо. Более сильное, уже не голое, а перехваченное чернильно-синим бюстгальтером тело лежит на боку, с поджатыми ногами, словно защищаясь от меня углом коленей. Я как будто предугадываю полуобнаженные ягодицы, зажатую между бедер левую руку с растопыренными пальцами, и когда, предваряя страх, еще не веря рокочущей в груди надежде, я порываюсь мягко убрать волосы с лица, мне приходится, мне дозволяется обнаружить, что голова шевелится, слегка, непроизвольно или избегая моего прикосновения, поворачивается, правая кисть вздрагивает, и вся рука поднимается, очень быстро, подобно невесомому белому крылу, и вот уже пальцы дотрагиваются до шелковистого белого занавеса перед лицом и неожиданно отметают его прочь, столь резко и грубо обнажая пылающие щеки и раскрасневшийся лоб, словно кто-то чужой бесцеремонно нарушает их тайну. Анна открывается мне, но не изумленной или застигнутой врасплох, а расчетливо застыв аллегорией стыдливости, и совершенно ясно, как все произошло, я вижу, как она в недавнем прошлом проходит по светлому коридору отеля, заходит в номер, заворачивает графиню в одеяло, стаскивает с кровати, сама ложится на ее место. Ей хочется раздеться, изогнуться в такую же гостеприимную позу. Итогом становятся слепки возбужденной нерешительности, Анна в одиночестве, мы вместе, я моментально ныряю к ней, обнимаю ее, прижимаю к себе, целую, руки тянутся к ее пальцам. И вот мы лежим рядом, распаленные близостью, в ознобе сомнения, дрожа от предчувствия эксперимента, словно бы нас уже забросило на асфальт Пункта № 8, промозглым утром или в зимний день. Друг к другу прижавшись, друг с другом столкнувшись лбами, коленями. Пальцы Анны так же холодны, как и мои, в 12:47. Она уже спала со мной, шепчет Анна, во сне, столь натурально и «радикально», что ее не первый день мучат угрызения совести. На винодельне? Да, откуда я знаю? Да потому что я собственной персоной играл в ее сне свою собственную роль, мог бы ответить я, однако считаю это бессмысленным и неприятным, поскольку тогда придется поинтересоваться и остальными сно-уча-стниками оргии, которые наверняка думают, должны думать, что видели сон. То, что происходит сейчас с нами, все меньше и меньше подчиняется нашему контролю, считает Анна, и это бесит ее — вжимая мою правую руку себе между ног, надавливая на мои два пальца, так что я почти вынужденно углубляюсь в нее, — и потому она не может, сейчас не может спать со мной, и, раз мне самому ни на йоту не лучше, она задирает юбку, сильнее раздвигает ноги, и мы вжимаемся друг в друга и тихо лежим вместе некоторое, наше огромное и жалкое время. Оделись, благопристойно возложив (по моей просьбе) обратно на кровать тело графини, которая до той поры таилась на ковре мумией в абрикосовом коконе. Самое время исповедаться. Ее убийства, мой Божий суд или инсценировка флорентийского полусмертоубийства. Но вместо того заводим разговор о будущем, которое, как я и предполагал, наш камень преткновения. Проигнорировать ЭКСПЕРИМЕНТ ФЕНИКС, уверовав во взрывную инсталляцию или еще какую смертельную ловушку на входе в область клонирования, устроенную и замаскированную фантомом «Группы 13», — это самый большой дар ее любви Борису, наперекор собственным надеждам, наперекор мечтам омолодиться и перебежать, танцуя, через мост, влившись в космический хоровод по ту сторону ограды из шиповника. Возможно, достигнув цели, мы истечем кровью. Или умрем. Прислонясь к стене у окна, глядим на набережную. Никогда прежде Анна не казалась мне такой беззащитной, такой близкой. Я чувствую, как ложится тень возможного будущего, в котором мы прожили бы вместе долго-долго. И словно вернувшись из той дали, обогащенный тем знанием, я вижу, трогаю, вдыхаю ее сейчас с доверчивой нежностью, какая рождается от многолетней близости. Не спать друг с другом — это всегда опасно, говорит она. Это абсолютно правильно для нас, и внезапно она предстает передо мной живым обрамлением зеркала, в котором мелькает Карин. На набережной, на тротуарах и улицах, которые с высоты четвертого этажа выглядят архитектурным проектом проектировщи-ка-гигантомана, возникает оживление, появляются зомби, оживленно жестикулируют. Очевидно, новая встреча. Итак, мы расстаемся, окончательно, причем данное утверждение имеет примерно такие же смысл и силу, как и уговор о встрече в определенное, принадлежащее, должно быть, лишь одному из нас, время.