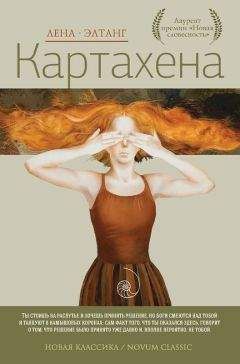Но теперь я думаю, что есть одно обстоятельство, способное уменьшить ему срок. Случайное убийство без обдуманного намерения. Почему я так думаю? Потому что Диакопи не маньяк, ему не нужна лишняя кровь и лишний грех на душу. Зачем убивать парня, который принес тебе вещь, за которую вы оба с одинаковым успехом можете сесть в тюрьму? Чтобы он тебя не выдал? Твое слово против слова деревенского шалопая. Да и какое у него может быть слово?
Дорогая полиция, я обокрал мертвеца и хотел продать свою добычу. Убил его не я, а уважаемый всеми постоялец гостиницы, но украденное продавал я, причем продавал ему же, постояльцу этому, хотите верьте, хотите нет.
Допустим, Диакопи собирался его ограбить, а потом сбежать, ведь денег на честную покупку у него не было, это мне доподлинно известно. Он думал, что слегка оглушил парня, когда тот наклонился к своим деньгам, которые покупатель уронил на землю. Там, наверное, было несколько мелких купюр, упакованных в солидную с виду пачку, потянешь за резинку – и деньги разлетятся под ноги. Это старый трюк, называется «неаполитанская затрещина». Потом Диакопи обыскал его, нашел то, что искал, и хотел было отправляться на шоссе, чтобы остановить ночной автобус до Салерно. Однако, наклонившись пониже, чтобы прикинуть, сколько пролежит оглушенный парнишка, он увидел кровь, бегущую из проломленного виска. Траянец упал на камень, в этой роще полно камней, там и голову и ноги переломать можно, если шариться в темноте.
Диакопи этого не знал, вот и убил парня ненароком. Потом испугался, запаниковал, схватил кусок проволоки, сделал петлю, потащил мертвеца на рынок и оставил там в корыте с солью. Зачем ему понадобилось сделать из убитого траянца двухметрового тунца, я не знаю. Это за рамками моего воображения. Но я непременно спрошу у него, когда дойдет до серьезного разговора.
Когда становишься жертвой, убивать легко.
Тело – это всего лишь поверхностное натяжение воды, под водой в нем живет моя смерть. А в твоем теле – живет твоя, не сомневайся. Когда я тебя убиваю, наши смерти говорят друг с другом, понимаешь? Вопрос только в том, кто из нас крепче ощущает безнадежность происходящего. Кто вернее знает, какое все вокруг слабое и на какой перетертой нитке оно держится.
Жертвой стать нетрудно, стоит только почувствовать течение хаоса. В детстве мне нравилось залезать в ручей, бегущий в ложбине на самой окраине бабкиного парка: если встать правильно, на самую середину, то чувствуешь свои пятки гладкими маленькими раковинами, постепенно уходящими в ряску, а щиколотки тебе осторожно гладят водоросли, незаметные под зеленой водой. Потом надо закрыть глаза и стоять неподвижно, расслабив колени, пока не услышишь, как вода смешивается с твоей кровью, и ты начинаешь стелиться по воздуху, точно водоросль по тинистому дну. С хаосом похожая штука. Чем глубже ты в нем утопаешь, тем легче поверить, что ты жертва обстоятельств, а значит, тебе не нужно просить прощения. Течение ведет тебя, качает, и все вопросы к пруду: к прозрачным дафниям, лептодорам и стрелолисту. А если не выходит смешаться с водой, то что ж, можно и притвориться.
В интернате мне приходилось притворяться, чтобы понравиться учительнице пения – она кормила меня миндальными сухариками, которые приносила к чаю из вольного мира. Мне хотелось петь ей вокализы с утра до вечера, недостижимую Бразильскую бахиану номер пять, а потом шуршать промасленной бумагой и смотреть в ее спокойные длинные глаза (глаза тоже были из вольного мира – и тоже миндальные).
В группе было еще семь человек с голосами и слухом, отобранных для показа начальству (раз в год в интернат приезжали патроны из столицы), ходила легенда, что тот, кто им понравится, может получить шанс (какой шанс – никто не знал, и оттого за этот шанс все готовы были из кожи вон вылезти). Учительница пения сказала, что петь царицу ночи под ее аккомпанемент буду я и что обсуждать тут нечего.
Вечером того же дня меня поймали на выходе из столовой, где была моя очередь мыть тарелки и протирать столы (это была дивная синекура, можно было до самой ночи греть себе чай в огромном чайнике и доедать обрезки, оставленные поваром). Меня затащили обратно в кухню, сняли крышку с огромного котла с супом (его всегда варили на два дня, так что половина супа была еще в котле) и окунули туда – прямо в месиво ракушек, вонючих потрохов и жирного склизкого мяса. Дыхание у меня восстановилось не сразу (не столько от потрохов, набившихся в рот и в нос, сколько от возмущения), пришлось долго отплевываться и вертеть головой, сидя на полу.
Те, кто пришел в столовую, стали в кружок и смотрели на меня: выйдешь на сцену, тварь, мы тебя утопим в перловой каше, сказали мне, только оттуда ты уже не вылезешь. Не знаю, кто из них получил мою роль (представления мне увидеть не пришлось), знаю только, что никто из семерых не был взят небожителями на небеса.
Я ведь не сомневаюсь, что все семеро умерли.
Почему он тогда не начал ее искать?
Деревенские дети, с которыми он столкнулся на аллее, сказали ему, что девушка с рюкзаком пошла вниз, в сторону моря, в направлении Траяно. Почему он не бродил по деревне, расспрашивая прохожих, не прочесывал окрестные пляжи, не отправился в полицию, наконец? Ладно, полицейские взяли бы его за горло с этими туманными объяснениями и чужим паспортом в кармане – если бы не сунули в камеру, то вышвырнули бы из страны как нелегального эмигранта. Но ведь можно было взяться за поиски самому, поехать, скажем, в Кастеллабату – они собирались отправиться туда на следующий день. Почему он сидел на мокром пляже и читал свою потрепанную Дикинсон, закутавшись в нейлоновую подстилку, вынутую из палатки?
Потому что его душила ярость – вот почему. Первую ночь он действительно провел в ожидании, вздрагивая от каждого хруста, похожего на шаги по прибрежной гальке, прислушиваясь к тяжелому плеску воды и чаячьим крикам. А утром, разбирая оставшиеся от костра угли, чтобы сварить себе кофе, он вдруг понял все и сел на землю. Она оставила ему знак, только это была не горстка пепла, а пепелище. Уж она постаралась. Знак был бессмысленным, опасным и наглым, будто пустая бутылка, выброшенная на скоростном шоссе из окна автомобиля.
Там витражные стекла, люнетты и маленький створчатый алтарь, говорила Паола по дороге на холм, дергая Маркуса за рукав, эта часовня не всегда была домашней, ее построили на холме, когда еще самого Траяно не было! Так восхищаться невзрачной постройкой в буковой роще, а потом уйти и оставить ее за собой разоренную и сожженную, будто церковь во время Смуты? Жестокий и веселый жест, так могли поступить обкурившиеся злобные подростки, но Паола? На кой черт?
Вернувшись в Англию, он взялся писать небольшую повесть, в которой этот вопрос не получил бы ответа, но, по крайней мере, прозвучал бы вслух. Когда, спустя много лет, издатель потребовал серьезной переделки, Маркус достал повесть из архива и уехал в Траяно на пару недель, чтобы написать ее заново. Он понял, что останется надолго, может быть, на год, когда сидел в беседке на поляне, где пепел давно уже стал почвой для олеандров, и прихлебывал из фляги на пару с сестрой-хозяйкой в чепце.
Чем была бы его книга, не выслушай он детскую историю Петры, рассказанную в прачечной? Ропотом, воплем, литанией, элегией, челобитной? И чем она стала теперь? Великое Делание закончилось пшиком и кусочком свинца на дне реторты.
Оставляя Паолу в часовне и отправляясь за вином, он потрепал ее по волосам, и этот жест остался в его памяти как чудовищная трата возможности, ведь он мог обнять ее еще раз, провести рукой по ее груди, подышать ей в ухо или поцеловать в нос. На кончике носа у нее была маленькая родинка, нестерпимо думать, что она тоже сгорела.
Его приятель по колледжу, служивший сторожем в историческом музее, говорил, что пустые манекены притягивают демонов. Они переходят из тела в тело, как музейный грабитель в зале с рыцарскими доспехами. Роман, который он написал за три четверти года, проведенные в «Бриатико», был похож на разговор со своим собственным демоном, поселившимся в манекене. Он мог бы назвать этот текст письмом, обращенным в никуда, но никуда, как известно, всегда отвечает, а ему не ответили.
Сероглазая Паола обратилась в пепел и больше не хотела с ним говорить.
* * *
В Вильнюсе теперь тоже тихо, думал Маркус, разглядывая тусклую зелень, едва шевелящуюся под ветром, там стоит та особая апрельская тишина, по которой я скучаю: пустая, оглушительная, с глухо пощелкивающими звуками города и железной дороги. Возвращаться из Аннунциаты он решил долгой дорогой, через вершину холма, чтобы не идти по шоссе, где крутились пыльные вихри. Сумерки уже спустились в деревне, когда он начал подниматься на холм, но чем выше он забирался, тем светлее становилось от близости неба.