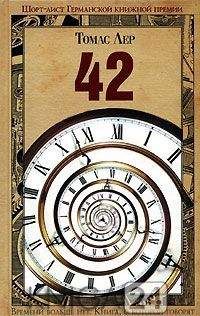Дорога вскоре становится скучна и пустынна, с каймой мельчающего безликого города: бензоколонки, рельсы, склады, новостройки, последние автобусные остановки. Потом — поля и перелески, невидимый красный круг ЛЭП — словно подземный отчаянный Жет д'О в скальных породах под нашими ногами, которые шагают из Пункта № 5 в Пункт № 6, минуя этих незначительных родственников нашего чреватого, жадного до зачатий и порождений ареала. Мендекер пошатывается в третьем или четвертом ряду, на сером костюме — пыль времен. Зато Хэрриет и Калькхоф — во главе, неутомимые бойскауты, которым не страшен ни дьявольский страх, ни чертов клон, разве только Лапочка Лапьер (развенчанный замковладелец и хронист Шпербер заметно сдал и уже не записывает свои бонмо[71]). За ними идут Пэтти Доусон, Антонио Митидьери, крепкие супруги Штиглер, сумасбродно верующие в собственную силу зачинания, в незыблемость их черноволосых и краснощеких генов — а как еще объяснить, зачем они взяли своего четырехлетнего эльфенка, настоящую Хайди[72] с пухленькими ручками и курносым носиком, которая восседает на плечах отца, то и дело оборачиваясь и удивляясь нашему шествию. Сельские болванчики как будто чуть передвинуты; конечно, был же РЫВОК, или нет, какие-то (пара сотен?) призрачные руки развернули их в нашу сторону, по крайней мере, мне так кажется, будто они хотят нас запомнить, будто растерянно взирают на нас из тюремных камер своего тотального паралича, хотят предупредить, безмолвно кричат, как парализованные смертники в ожидании убийственного укола. Я больше не знаю, зачем иду. Или я иду, потому что больше не знаю, зачем мне оставаться в Женеве, в Мюнхене или во Флоренции. Австрийцы за спиной временами мычат какую-то хоральную мелодию, но держат языки за зубами. Рядом со мной идет Кубота, почти ничего не говоря и явно не страшась, что Софи может изнасиловать его клон. «Си-ни», смертельная 42-я секунда, уже давно пройдена. Вот и весь мой фанатизм. И все же мне сдается, я могу что-то упустить на пути к Пункту № 8. Может, мысли? О времени, о чем же еще, ведь за все ложногоды меня не оставляло ощущение невозможности досыта надуматься о времени, исчерпать его. В этом — его трюк. Так оно одерживает победу над нами, пусть даже остальной мир замер, чтобы нас не тревожить. Круглое лицо Куботы блестит маской под свинцовым солнцем, для него время в первую очередь циклично — почка, цветок, листопад, — а конец времени (не считая нас) означает расставание со всем, что дорого. Для ЦЕРНистов время можно создать и уничтожить, размять в пространстве, растянуть и развернуть вспять, спрессовать и прервать на веки вечные. Останавливаясь, мы двигаемся (прихватив чудовищный задник ПОДЛОЖКИ) в коридоре времени со скоростью света. А теперь развернись-ка, не меняя скорости, и иди назад. Примерно этого мы ожидаем от Пункта № 8. Опираясь в нашей уверенности на счастливые, граничащие со скудоумием пророчества, на бьющий через край энтузиазм и светозарность лиц наших испытателей, вообще-то тертых хронокалачей. Да здравствует перемена обстоятельств! Никто больше об этом не говорит, но по лицу каждого из нас видно, как, просчитывая возможные перспективы, он устало комкает невидимую миллиметровую бумагу и бросает ее куда-то вовнутрь себя. Еще не больше часа пешего хода — и нечто пожрет, прожует, изрыгнет или растворит нас, глубоко в земле молчит и тихо испускает лучи оракул в коконе электрических проводов, спит, а весь туннель — всего лишь дендрит исполинского мозга, где медленно возникает мысль о нашем будущем. Reset, полный начальный сброс — это официальная версия. Мы помолодеем на пять лет. Забудем все свои дела, следы безвременья годны только для какого-нибудь сумасшедшего романа. Ничего иного мы не потерпим. Но откуда тени, почему у нас все-таки есть тени. На бледном, сером, синеватом уличном асфальте наши размытые отпечатки срастаются за границами наших сфер, колышутся, как фронт рыбьей стаи, откуда выныривает то одна, то другая голова. Свет всегда делал для нас исключение, старый добрый Свет, пришедший в мир, когда бесконечно малый Бог взорвался среди Ничто, дабы порожденное мироздание стало апофеозом его отсутствия; вечный странник Свет, для которого за пятнадцать миллиардов лет не прошло ни единой секунды, который пронизывает весь космос и совсем не чувствует того, что он нас творит, гонит, губит; наше время, счастье, беда и проклятие, вся грандиозная жалкая история. Свет — Божья безучастность, которая ложится на все.
Стюарт мне еле заметно подмигивает, но не пытается ничего больше сказать. Да-да, помню, ребус в Цюрихе. Помчаться назад сквозь время. Вместо локомотива — пышнотелая Катарина, а ее вампирские детки — как два угрюмо трясущихся прицепа. В пункте ноль разворот на 90° в четвертое или десятое измерение. Бентам на обочине отряхивает с себя пыль, со Шпербера градом льет пот, эльфенок ноет, бледные математик Берини и его диоровская хищница неловко держатся за руки, как четырнадцатилетние, желая еще чуть-чуть продлить
подростковую влюбленность перед лицом катастрофы. Это по-настоящему. Солнце жарит по-настоящему. Наши колени дрожат по-настоящему. Если мы мертвы, то по-настоящему.
В последние секунды мои мысли обращаются к Анне, которая предстает в новом, хотя и всегда подспудно присущем ей образе — как часть неразлучной пары. Ее, Бориса и двух оставленных им эльфят, Симона и Розу, озаряет мистический свет прародителей, единственное начало, которое остается после нас (если, конечно, Борис сгодится на роль Ноя). Пункт № 8, куда мы подошли с севера, показался жутковато знакомым, таким нормальным, что по спине забегали мурашки, — ангары, замороженные мотоциклисты-полицейские на входе, наискось поставленные ЦЕРНовские автобусы с неутомимыми курильщиками-водителями. Вдруг нас приковало к месту движение позади шеренг болванчиков, грянула молния ужаса и надежды, что ареал уже производит новых хронифицированных и выслал нам навстречу парочку образцов. Но неохотно пришлось узнать троих скороходов; впрочем, сразу же подступила волна нового напряжения. Очевидно, укрощение Софи прошло успешно, раз мы в полном составе добрались до места назначения. Она сидела на асфальте рядом с рухнувшими наземь официантками, безоружная и безучастная, то и дело механически прикладываясь к бутылке просекко, которую не выпускала из руки. Вмешательства нашей быстроходной тройки не требовалось: по-видимому, Софи почитала свою миссию исполненной. Не важно, последняя в колене Неверующих уже не играет никакой роли, пусть даже существует в количестве еще двенадцати экземпляров, которые сжимают в двенадцати поднятых правых руках двенадцать штук моих «Кар МК9» и целятся в пустоту, потому что изувеченный выстрелами в живот и в голову труп Хаями лежит на земле, в единственном и последнем обличье, благодаря чему наши воспоминания об АТОМологе безвременья перешли в область безвредного вымысла. Софи не имеет значения, у нас нет времени (двусмысленная фигура речи) для споров и приговоров. Мы же вот-вот пробьем стену безвременья, а кто не хочет этому верить, пусть вдохновится видом, открывающимся за вторым автобусом (мавзолей мадам Дену): вещественные доказательства плодородности ареала, тридцать три лохматых Хэр-риета в пяти конфигурациях (или возрастных ступенях), двадцать один Калькхоф в четырех, пятнадцать Менде-керов и четырнадцать Шперберов в трех возрастах, так что на одиночные копии Дайсукэ, Бентама, Митидьери и даже на труп Хаями взираешь с облегчением. Добавляя стрелковый отряд Софи, который, отразившись, как и все давешние, смотрит вовне, из ареала, и потому целится не в сторону лежащего трупа физика, а в нас, мы получаем сто один клон по периметру площадки, как без труда вычислил квантовый компьютер внутри черепной коробки Пэтти Доусон. Эта человеческая стена шокирует, воодушевляет, удручает, демонстрируя нам, кто мы на самом деле — пешки похотливого пространства-времени. Ни у кого нет сил спорить. На южной оконечности ареала, около шатров службы кейтеринга по-прежнему распростерлась чайка, пойманная некогда мадам Дену в остекленевшем воздухе. Между этой гербовой птицей болванчиков и входом к лифтам ДЕЛФИ мы встали слегка изогнутым строем, все в полном составе, тридцать восемь зомби, включая покачивающуюся и апатичную Софи, которую придерживают Шмид и полицейский, что все-таки похоже на приговор, поскольку ее мнения не спрашивали, но никто не хочет оказаться ее потенциальной жертвой. Сигнал нам подаст троекратным взмахом руки мертвенно-бледный Шпербер, уже приготовившийся в середине шеренги. Мы стоим, как оперный хор на репетиции, в разномастных нарядах, продолжая дугу клонов, с той разницей, что они смотрят из ареала вовне, а мы все уставились на пустую асфальтовую площадку, словно там вдруг возникнет нечто прерывающее эксперимент, ко всеобщему облегчению. Мендекер встал крайним слева, удобная позиция, чтобы поджечь взрывчатку «Группы 13». Что-то должно поменяться, произносит рядом со мной Пэтти, невозможно вернуться точно туда же. Последние человеческие слова. Весьма утешительно. Передо мной, замыкая строй давешних, лежат нескопированные мотоциклист-полицейский и серый заяц. Нет времени. Подумать. Раз, поднимается рука Шпербера. Два. Совместный шаг.