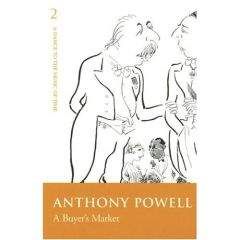– Нет, – отвечаю я, – пришло. Абсолютно точно и однозначно. Я знаю, что и ты это понимаешь. Это Гильермо тебя заставляет.
– Нет. Это твоя мама меня заставляет.
– Ты не так уж сильно старше меня.
– На три года, что довольно много, но так будет не всегда. – Я думаю о том, что сейчас наша с ним разница в три года кажется куда меньше нашей разницы в два года с Зефиром, когда мне было четырнадцать. По моим ощущениям, мы с Оскаром ровесники.
– Но ты же в кого-нибудь другого влюбишься, – говорю я.
– Вероятнее, что это сделаешь ты.
– Нереально. Ты – парень с портрета.
– А ты – девушка из пророчества.
– Кажется, что это и моя мама напророчила, – говорю я и беру его за руку, задумавшись о том, как странно, что я тогда дала Оскару записку, которую Гильермо написал для моей матери, как будто эти слова прошли сквозь время от них к нам. Словно благословение.
– Ты еще школьница, – продолжает Оскар, – тебе, блин, даже законом это еще запрещено, о чем я даже не задумывался, пока мне вчера вечером на это Гильермо несколько сотен раз не указал. Мы можем дружить. Можем скакать на попрыгунах, играть в шахматы, не знаю, что еще. – Он говорит неуверенным и недовольным голосом, но потом улыбается. – Я тебя дождусь. Буду жить в пещере. Или уйду в монахи на несколько лет, постригусь налысо, начну носить рясу, все, как полагается. Я не знаю, я просто реально должен поступить правильно.
Невероятно. Если и есть такой момент, когда надо нажать на кнопку «Play», то вот он. И из меня кувырком летят слова:
– А правильно было бы отказываться от, вероятно, любви всей нашей жизни? Правильно отворачиваться от судьбы, идти наперекор всем силам, которые решили свести нас вместе, которые трудятся над этим уже годами? Ни за что! – Во мне восстает дух обеих женщин из Свитвайнов, живших до меня. Я слышу топот коней, несущихся через поколения. И продолжаю: – Моя мама, которая собиралась перевернуть всю свою жизнь во имя любви, моя бабушка, которая самого Господа Бога называет Кларком Гейблом, не хотят, чтобы мы от этого бежали, они хотят, чтобы мы бежали навстречу любви. – Благодаря урокам Гильермо руки у меня стали тоже очень красноречивые. – Я ради тебя завершила свой бойкот. Я за тебя практически весь мир отдала. И, к слову сказать, по уровню зрелости шестнадцатилетняя девушка и девятнадцатилетний парень примерно одинаковы. Более того, Оскар, не в обиду будет сказано, но ты до жути инфантильный.
Он смеется, и пока он не пришел в себя, я толкаю его на землю и сажусь сверху, взяв руки в захват над головой, так что он оказывается беспомощным.
– Джуд.
– Ты даже знаешь, как меня зовут, – с улыбкой говорю я.
– Иуда – мой самый любимый святой, – заявляет Оскар. – Покровитель отчаявшихся. Именно к нему обращаются, потеряв всякую надежду. И он же отвечает за чудеса.
– Да ты шутишь, – говорю я, отпуская его руки.
– Я серьезен.
Это звучит куда лучше, чем Иуда-предатель.
– Тогда это будет мой новый образец для подражания.
Оскар приподнимает мне майку, из окон дома падает как раз достаточно света, чтобы рассмотреть херувимов. Он проводит по ним пальцем. И смотрит мне в глаза, на то, как я реагирую на его прикосновение – я от него ухожу в свободное падение. Я дышу все чаще и чаще, да и у Оскара взгляд поплыл от желания.
– У тебя вроде бы были проблемы со сдерживанием импульсов.
– Сейчас все полностью под контролем.
– Да? – Я запускаю руки ему под футболку и даю им свободу. Я чувствую, как он дрожит и закрывает глаза.
– Черт, как я устал… – Оскар обхватывает меня, одним быстрым движением оказывается сверху и начинает меня целовать, и моя радость, и моя страсть, и моя любовь, все эти мои нескончаемые чувства… – Ты с ума меня сводишь, – говорит он, задыхаясь, и на его лице отражается самое серьезное обострение безумия.
– И ты меня, – отвечаю я.
– И я буду сходить по тебе с ума еще очень и очень долго.
– И я тоже.
– И я расскажу тебе такое, что боялся рассказать кому-либо еще.
– Я тоже.
Оскар отстраняется, улыбается, дотрагивается до моего носа.
– Кажется, этот Оскар – самый гениальный парень, с которым я знаком, уж не говоря про то, что он нереально соблазнительный, и, дамы и господа, только посмотрите, как он прислоняется.
– Я тоже.
– Черт, где Ральф? – вопит Провидец.
Да вот же он, ну!
Мы с Ноа стоим возле студии Гильермо. Он хотел пойти со мной, но теперь занервничал.
– Такое чувство, что мы предаем папу.
– Мы его спрашивали.
– Знаю. Но все равно мне кажется, что Гарсию надо вызвать на дуэль, чтобы защитить папину честь.
– Это было бы смешно.
Ноа ухмыляется и толкает меня плечом:
– Да, было бы смешно.
Но я его понимаю. Мои чувства к Гильермо тоже меняются, как в калейдоскопе, я его то ненавижу, потому что он разрушил нашу семью, разбил моему отцу сердце… Да и за будущее, которое никогда не настанет… А как бы все могло сложиться? Он бы жил с нами? Или я бы переехала с папой? А в следующий момент уже обожаю, как с самого первого момента, когда я только увидела Пьяного Игоря, и он сказал, что у него все плохо. А еще я все думаю о том, насколько странно, что я все равно бы познакомилась с Гильермо и Оскаром, даже если бы мама осталась жива. Мы все неминуемо должны были столкнуться – в любом случае. Может, некоторым людям просто суждено оказаться в одном романе.
Гильермо дверь не открывает, поэтому мы с Ноа входим сами и идем по коридору. Я замечаю, что тут что-то изменилось, но что именно, понимаю только в почтовой комнате. Пол вымыт, и, что невероятно, почту вынесли. Дверь в комнату, по которой прошелся циклон, открыта, в ней теперь снова кабинет. Я подхожу к двери. По центру стоит сломанный ангел, по спине под крыльями у нее проходит впечатляющая трещина. Вспоминается, как Гильермо сказал мне, что трещины и сколы – самое интересное в моих работах из портфолио. Возможно, то же самое касается и людей с их трещинами.
Я обвожу взглядом комнату, оставшуюся без почты и пыли, и думаю, не собирается ли Гильермо снова набрать учеников. Ноа остановился перед картиной с поцелуем.
– Именно здесь я увидел их в тот день, – говорит он и проводит рукой по темной тени. – Вот деревянная птица, видишь? Может, они часто там встречались.
– Да, – подтверждает Гильермо, спускаясь по лестнице с метлой и совком.
– Это моя мама написала. – Голос Ноа звучит утвердительно, а не вопросительно.
– Да.
– А у нее хорошо получилось, – продолжает брат, все еще стоя лицом к картине.
Гильермо ставит метлу с совком:
– Да.
– Она хотела стать художницей?
– Да. В глубине души, думаю, да.
– А почему она нам об этом не говорила? – Ноа поворачивается. У него в глазах стоят слезы. – Почему ничего нам не показывала?
– Она собиралась. Она не была довольна своими работами. Она хотела показывать что-то, не знаю, может, идеальное… – Он разглядывает меня, сложив руки на груди. – Может, по той причине, что ты не показывала ей своих песочных женщин.
– Песочных женщин?
– Я пришел из дома, чтобы показать… – Он подходит к столу с ноутбуком. Нажимает на кнопку, и на экране появляются фотографии.
Я подхожу ближе. Вот они. Мои песчаные женщины, которых снова вынесло на берег, после того как несколько лет назад их поглотило море. Как такое возможно? Я поворачиваюсь к Гильермо и вдруг всё понимаю:
– Так это вы. Вы послали эти фотографии в ШИК?
Он кивает:
– Да, анонимно. Мне кажется, что твоя мама так хотела. Она очень переживала, что ты не будешь подавать документы. Говорила, что собирается посылать их сама. Так что я это сделал. – Он показывает на экран. – Ей они страшно нравились, такие безумные и беззаботные. Мне тоже.
– Это она снимала?
– Нет, я, – отвечает Ноа. – Она, наверное, нашла их в папином фотоаппарате и скачала прежде, чем я всё стер. – Брат смотрит на меня. – После вечеринки у Кортни.
Я пытаюсь это все как-то переварить. В первую очередь то, что мама знала обо мне нечто такое, чего я не ожидала. И я снова начинаю чувствовать себя невесомой. Я опускаю взгляд. Нет, ноги все так же касаются пола. Люди умирают, думаю я, а твои отношения с ними – нет. Они продолжаются и продолжают изменяться.
До меня вдруг доходит, что Гильермо что-то говорит.
– Мама вами обоими очень гордилась. Я ни разу такого не видел.
Я смотрю по сторонам, я прямо чувствую, что она здесь, и я уверена, что она этого хотела бы. Она знала, что у каждого из нас – важный кусок истории, которую надо объединить вместе.
Она хотела бы мне сказать, что видела скульптуры, а это мне передать мог только Гильермо. Она хотела бы, чтобы Ноа сказал правду папе и Гильермо. Хотела бы, чтобы я рассказала Ноа про ШИК, но, возможно, у меня не хватило бы смелости, если бы я не пришла к Гильермо, если бы не взяла в руки зубило и молоток. Она хотела, чтобы мы познакомились с ним, чтобы наши жизни объединились, потому что все мы представляем собой друг для друга ключ от двери, которая иначе осталась бы запертой навсегда.