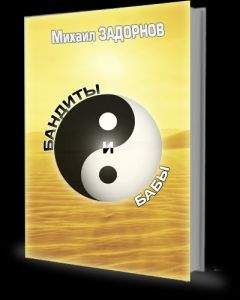А похмелье и впрямь бывает волшебным. Знаешь, я пару раз потом пробовал курить анашу. Не моё! Пиво наутро после перепоя вставляет реальнее! Торкает почище любой травки. Во всяком случае, мне. По-моему, многие мужики у нас пьют, чтобы наутро опохмелиться! Когда боль в голове сменяется радостью во всём теле, во всех мышцах… Вот это торчок! Я понимаю, что выражаюсь безграмотно: радость в мышцах быть не может. Но у русского человека от пива после перепоя может!
На прощание Маша сказала, что сегодня у неё снова много работы, а завтра выходной и она снова хочет поехать на мой творческий вечер. Я согласился с условием, что после концерта мы снова пойдём в её любимое кафе, и, если она мне почитает Блока, то я всё-таки соглашусь с ней по-дружески пыхнуть. Она ответила, что ради такого случая почитает мне даже Пастернака вперемешку с Мандельштамом. Я дотронулся пальцем до её носа, как в детстве до моего носа дотрагивалась мама:
— Беги, учительница!
— Да. Только один вопрос. Кто это тебя пасёт?
Пиво такой радостью разливалось по миллиардам моих капилляров, что я даже забыл о Пашиной угрозе приставить ко мне сторожа-секьюрити, чтобы в случае, если решу сорваться, немедленно доложил куда следует.
— Как это пасёт?
— Когда я тебя заносила, какой-то кекс лысый подошёл, пытался у меня узнать, кто я? Тебе что, угрожают?
— И что ты ему ответила?
— Правду, что я учительница в кибуце.
— А он?
— А он удивился, спросил, что такое «кибуц»?
— А ты?
— А я ему объяснила, что это мечта моего папы.
— А он?
— А он завис.
— Про папу не стал расспрашивать?
— У тебя что, Сашуль, проблемы?
— Да бред какой-то… На своей родине недоиграли, решили доиграть на родине исторической.
— Смотри, Сашуль, осторожно! Тут у нас нынче наших российских отморозков как семечек в арбузе. Что-то я за тебя начинаю волноваться. вечером позвоню.
«Надо же! — подумал я. — Я первый, кто за много лет подарил ей цветы, а она первая, кто за много лет будет обо мне волноваться!» Эта мысль добавила радости к выпитой банке пива, и мне ненадолго показалось, что жизнь начала налаживаться. Поэтому я начал собираться в сауну, в бассейн — нужно было срочно приводить себя в порядок. Ведь мне предстояла встреча с Пашиной крышей.
За час до отъезда на концерт Паша всё-таки привёл крышу. Двое наших мелкотравчатых русских бандюганов, которые в России даже в бандитских кругах могли бы сгодиться лишь для сбора дани с нищих инвалидов. Один набыченно-накачанный, с глазами, в которых смысла и тепла к человечеству было не больше, чем в Балтийском море осенью. Второй маленький, я бы даже сказал, плюгавенький.
Похожий своей скрюченной фигурой на окурок в общежитейской пепельнице, скреативленной из консервной банки. Даже не улыбнулись при знакомстве со мной, то бишь со звездой, с любимцем публики! Не распознали волшебника. Одним словом, реальные отморозки.
Я не помню, чтобы у меня в жизни был когда-нибудь более неприятный разговор. Разве что иногда с нашими врачами. Отморозки отказались от предложенного мною кофе. Мол, на храпок нас не бери, мы тебе не кореша! Тем не менее я начал разговор, насколько мог, доброжелательно:
— Не знаю, как вас. вы не представились. но дело не в этом. Я вообще хорошо вижу. Видите, хожу без очков? Да-да, я вижу, сколько зрителей на моих концертах. И считать умею. Паша с билетов налоги не платит. Мы все это знаем.
Паша сидел рядом, и я был рад тому, что этот зарвавшийся тюха слышит наш разговор.
— Это он может в России представляться как импресарио, а для здешних властей просто жулик. Если я прерву гастроли и улечу, зрители устроят скандал. Дойдёт до налоговой. И всё, что он накосячил, тут же проявится. Всем не поздоровится! Зачем вам проблемы? Вы, как и я, здесь не свои. Разве не разумнее со мною завтра расплатиться, как договаривались, — и разбежаться по-хорошему? При таких сборах на всех хватит. Кроме налоговой. Вместо налоговой вы и будете!
Я уверен был, что в конце этого монолога весьма достойно пошутил. Но «крыша» так не думала. Сморчок заговорил первый:
— Это всё халоймес! — живя в Израиле, он, конечно, должен был похвастать знанием хоть каких-то еврейских слов. — Значит, так, шмаровоз совдеповский, слушай сюда! Ты не в Союзе, — он сразу начал мне тыкать. — Как кубатурил, так и будешь. И не вздумай соскочить! А за то, что сейчас настрекотал и Пашуню нашего опустил, не получишь ни шекеля, ни косаря, ни хруста! Пашуха, сегодня же приставь к этой тявкуше ещё одного вертухая! На случай. Вдруг у овцы купол снесёт — решит нас кинуть. — Сморчок снова обратился ко мне. — У тебя, слыхал, герлуха местная завелась?
Я не большой знаток зэковской фени, тем не менее понимал, что он косит под бывалого, тянувшего срок на зоне. Феня очень неуклюже вплеталась в его полуграмотную речь. Скорее, это была не феня, а жаргон мелких блатных, сборщиков подати на оптовом рынке в дальнем районе Москвы или в Подмосковье:
— Наш топтун доложил: вы вчера с этой шкирлой напоросятились по полной! А у неё пацанёнок. Ты же хоть и тявкуша, а овца добрая, не хочешь, чтобы мы этого пенька ужалили.
Сморчок хитро прищурился. Таким взглядом, наверное, смотрел Ленин на детей, которых ненавидел.
Набыченный тоже невнятно заулыбался. Вот бы такого снять в современном энтэвэшном сериале! Какой-то маскарадный бандит. Может, я потому и сумел сдержаться, что вся эта наша стрелка с разборкой выглядела, скорее, водевильной. А сдержаться надо было.
Я вспомнил, как хладнокровно в любых самых жёстких ситуациях умел вести себя Иосиф Кобзон. Говорил медленно и каждое слово произносил весьма увесисто, отчего речь его всегда была убедительна и не подлежала обсуждению. Я же актёр. Я решил сыграть Кобзона:
— Если я сейчас позову вон тех отельных охранников, да, меня больше в Израиль не пустят, зато вас из Израиля уже никогда не выпустят! И ещё. Забыли, что у вас в России тоже остались и бабы, и пеньки, и шкирлы… А мои дворовые дружбаны нынче не в шестёрках ходят! Так что сам ширинку захлопни, а что я накубатурю, то моё.
Я сам не знаю, как из меня вырвалось это зэковское красноречие. Скорее всего, провокация памяти. Слишком много ролей сыграл.
Но, главное, я впервые себе позволил такую шалость, как шантаж. Должен сказать: довольно приятная штучка. Настроение даже слегка улучшилось. Скорее всего, оттого что оба крышевика сбледнули от моих слов. Рыжий бычара заиграл желваками. Так в голливудских боевиках очень отрицательные герои пугают очень положительных. Насмотрелся кровавой голливудщины реально. Сморчку пугать меня было нечем. Разве что скорчить рожу, чтобы она мне потом приснилась. Но любая скорченная рожа могла в тот момент только облагородить его лицо:
— Ну всё, базар окончен! Пашуха, если эта овца ещё заблеет, пусть сторожа привезут её к нам. Знаешь, где гнездимся? Только зенки залепите тявкуше. И заткните. ширинку! — Сморчок посмотрел на меня взглядом, которым явно в былые времена охлаждал пыл не желавших платить дань мелких лавочников или скорее лавочниц. — Если же ускользнёт. мы евонной местной герлухе челюсть оторвём, не сможет мастурбировать у зеркала!
Этот образ меня восхитил. Я в тот момент подумал, что обязательно расскажу о такой жёсткой угрозе Маше. Впрочем, мне было тогда не до шуток. А вдруг и впрямь чего сотворят? Ведь собирать дань с таких, как Паша, ставят последних долбаков: чтобы могли за ноги подвесить, к ушам гантельки прицепить, палец отрезать. словом, чтобы всё было, как в кино. Только в кино играют, а у этих кровь льётся настоящая.
Я помню, как я про себя повторял тогда только одно слово: «Сдержаться! Сдержаться! Сдержаться!» Когда они направились к выходу, охранники внимательно на них посмотрели. Видимо, наш разговор на повышенных тонах привлёк их внимание. Мне ничего не стоило тогда с их помощью задержать эту шушеру. Но тогда бы и меня могли арестовать, ведь я тоже нарушил закон — работал без разрешения, втёмную. Расчёт отморозков оказался правильным, они, не рискуя, могли превратить меня в своего раба, пользуясь тем, что я, бывший советский лох, вовремя не подписал по всем правилам западного мира юридический договор.
Я поднялся в свой номер и позвонил Вахтангу: одному из двадцати восьми крестных отцов бывшего Союза. Вахтанг и его жена Фрида всегда ходили на спектакли, в которых я играл. Ни одного не пропустили! Они были одними из самых рьяных моих поклонников, покупали и копили фильмы с моим участием. Вахтанг не раз спрашивал меня, не надо ли чем помочь. И однажды помог, как не помогла бы ни одна милиция.
В конце восьмидесятых мелкая рэкетная шушера разузнала о моих гонорарах. И решила меня крышевать за десять процентов. Так и сказали: мол, со всех стригут пятнадцать, а мне исключительно из уважения к моему таланту сделают дискаунт до десяти. Мне это, конечно, польстило! Короче, классический наезд. Они одного не учли. В то время я уже был заслуженным артистом. Вот-вот должны были дать народного. Такое признание моего труда государством позволяло мне официально оформить к себе на работу секретаря, повара и садовника! У Вахтанга как раз в это время жена Фрида сдала, как он выразился, «вторую сессию». На языке сериальных уголовников — отмотала второй срок. Её нигде не принимали на работу. Союз ещё не распался. При советской власти уголовников сторонились. Они, как теперь, не становились депутатами. Вахтанг попросил меня как заслуженного артиста оформить его жену к себе на работу секретарём. Я тогда шутливо переспросил Вахтанга: