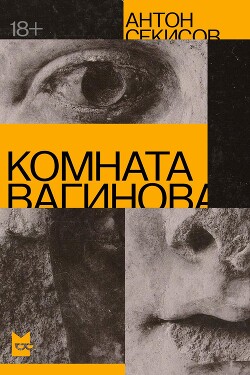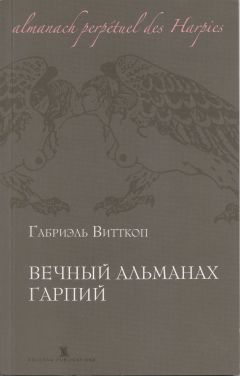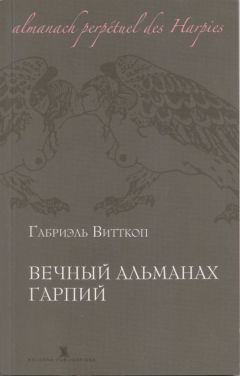Сеня ложится в кровать и записывает голосовое сообщение для родителей. В нем он говорит про квартиру, хозяйку, жильцов, про поход в столовую и ортодоксального еврея, которому открывал дверь, но даже не упоминает про Лену. Сеня предвидит, что мама ухватится за симпатичную соседку и будет спрашивать по несколько раз в день: «Как там твоя Леночка?»
Сеня не помнит, когда в последний раз он просто лежал и смотрел в потолок. Паутина трещин его успокаивает. Но вдруг возникает неприятное чувство, нечто вроде ощущения чужого присутствия. Как будто кто-то стоит за шторой и изучает его. В то же время он понимает, что дело не в шторе. Сеня рыщет глазами по комнате, выискивая источник этих помех, дисгармонии. Он встает и ходит по комнате, приближается к шкафу. Взгляд Сени задерживается на полке с бельем. Он изучает свои длинные синтетические носки, трусы-боксеры из «Эйч энд Эм» с орнаментом из фруктов и ягод. Взгляд медленно опускается к нижним полкам.
Он долго и тупо смотрит на среднюю полку и вдруг замирает. «Трусы с ананасами. Мои трусы с ананасами», — думает Сеня. Он понимает, что кто-то рылся в его вещах и переложил трусы на другую полку. Нет ни малейших сомнений, что это сделал не Сеня.
Вообще-то Сеня до того рассеянный человек, что может и не заметить, если в комнате полностью поменяют мебель и ее расстановку. Но он становится щепетильным, внимательным, если речь заходит о нижнем белье. У Сени строгое правило для трусов: они занимают исключительно верхнюю полку. Своего рода пунктик, бзик, происхождение которого необъяснимо. Он скорее лишится пальца, чем сунет трусы на срединную или тем более нижнюю полку. Он органически неспособен воткнуть куда попало свое белье. Значит, пока Сеня ходил в столовую и смотрел тиктоки с енотом, кто-то был в его комнате, копался в вещах, уронил трусы и неаккуратно вернул на место.
Подозрение падает на Анну Эрнестовну. Она производит впечатление человека, который мог нелегально проникнуть в комнату, исследовать вещи, сделать определенные выводы, возможно, что-нибудь прихватить с собой и незаметно уйти, не испытав ни волнения, ни угрызений совести. Сеня собирается осмотреть остальные вещи, проверить, на месте ли деньги и паспорт, возможно, найти другие следы пребывания Анны Эрнестовны или кого-то еще. Но тут раздается стук в дверь.
Сене не хочется открывать, ему хочется притвориться спящим, и все-таки он подходит к двери. За ней стоит Лена в пижаме — уставшая и угрюмая. Она встает на цыпочки и заглядывает Сене через плечо.
— Воняет просто невыносимо, — говорит Лена. — Может быть, из твоей комнаты?
Сеня разводит руками. Он чувствует себя неуютно в чужих домашних штанах, которые к тому же малы и обнажают щиколотки. Это чувство почти заставляет его позабыть о трусах с ананасами.
— Не возражаешь, если я здесь понюхаю? — уточняет Лена.
Сеня делает шаг в сторону, пропуская ее. Лена тщательно инспектирует комнату, открывает дверь шкафа, принюхивается, приподнимает простынь, впивается взглядом в матрас.
— Странно, так странно, — все повторяет она.
Сене приходит в голову мысль, что вонь была только предлогом и Лена явилась к нему в ночи с эротическими намерениями. Он даже решает, что нужно ее поцеловать, но сразу же понимает, как глупо это будет смотреться. Девушка жалуется на нестерпимую вонь, а парень наклоняется и приоткрывает рот для поцелуя. Да и одета Лена явно не для соблазнения. Так ничего и не вынюхав, Лена уходит к себе.
Сеня полночи ворочается и размышляет — частично о трусах с ананасами, частично о Лене. Наверное, все-таки нужно было ее поцеловать. Сенин двоюродный дядя Витя всегда говорил, что женщины ценят напор и решительность. Правда, он отсидел за поножовщину и грабеж, а потом его убили в уличной драке. Вспоминая о дяде Вите и его противоречивой яркой судьбе, Сеня засыпает уже под утро.
О кафе-мороженом «Елочка», каменных львах и об одиноком тролле
У Нины правильные черты лица, но глаза, волосы, кожа — все как будто бы выцветшее. Первое слово, которое приходит на ум, — «блеклый». Блеклая красота Нины. В ее походке, осанке и взгляде явственно читается неуверенность. Неуверенность так очевидна, что почти каждый случайный знакомый считает своим долгом поддержать Нину, повысить ее самооценку, открыть ей глаза на ее собственную красоту. Десятки, может быть, сотни раз Нина слышала эту формулу: «Ты слишком красива, чтобы…»
«Слишком красива, чтобы сидеть по вечерам дома» — от учительницы русского языка и литературы. «Слишком красива, чтобы поступать в пединститут» — от случайной женщины у стенда с результатами вступительных экзаменов. «Слишком красива, чтобы тусоваться с этими гоблинами» — от молодого сотрудника патрульно-постовой службы, когда Нину задержали вместе с группой толкинистов за распитие пива в парке. «Слишком красива, чтобы работать корректором» — от экс-начальника со слюнявым ртом. И сейчас Нина думает: «Слишком красива, чтобы лежать на грязном полу связанной, с кляпом во рту и ведром мочи под боком».
Из ставшего привычным угла Нина обозревает комнату. Вот что она видит: пол, кусок плинтуса, нижняя часть батареи. Если чуть извернуться, то можно поднять голову и увидеть окно, но у Нины нет никакого желания изворачиваться, что-либо предпринимать. Это странно, что Нина, которая просто ненавидит лежать, совершенно спокойно валяется на полу целыми днями. Как будто все процессы внутри остановились. Конечностей Нина почти не чувствует. «Может быть, они отсыхают из-за того, что ослаб приток крови», — думает Нина, удивляясь своему равнодушию. Возможно, она еще не признала реальность своего заточения.
Вдруг Нина чувствует резкую скручивающую боль в икроножной мышце. Ей кажется, что кто-то затолкал эту мышцу в советскую железную мясорубку и неторопливо начал вращать ручку. Нина издает слабый стон и слышит, как в темноте шевелится ее похититель. Он перелистывает страницы книги. В ушах Нины стоит непрерывный гул. Теперь икроножную мышцу взбивают, раскатывают и снова взбивают, как кусок теста. Боль уже не такая резкая, но все равно пронизывающая. Нина давит зубами на кляп, крепко зажмуривается и ждет, когда боль пройдет.
Нина воображает, что сидит на кухне у бабушки и лепит пельмени. Лицо и руки Нины покрыты мукой, а на бабушке нет ни крупицы. Ее фартук стерильно чист, как в рекламе порошка «Тайд». У бабушки прозрачные глаза и длинные белые волосы скандинавской колдуньи. Сама она ничего не лепит и строго следит за пальцам Нины.
Все эти дни, пока Нина лежит на полу коммуналки связанная, с вонючей тряпкой во рту, ее не покидает непривычное ощущение. И вот наконец она подобрала для него определение: это ощущение дежавю. Хотя Нину никто прежде не похищал, не связывал, не засовывал тряпку в рот, не держал на снотворном, не следил за ней из угла, листая страницы книги, она осознает, что уже переживала нечто подобное. Тот, схожий, опыт был куда мягче, но зато растянулся на долгие годы: Нина провела в домашнем плену бо́льшую часть школьного возраста. Бабушка говорила, что затворничество — необходимая мера: все дело в Нинином слабом здоровье. «Выхода нет, если хочется жить», — сказала она, когда Нину перевели на домашнее обучение. Нине так и не удалось узнать, была ли такая мера необходимой или вообще хоть сколько-нибудь оправданной. Но Нина знала наверняка, что бабушка проработала в районной поликлинике больше тридцати лет и могла достать любую справку.
В детские годы Нина до карикатурности напоминала комарика: была остроносой и тоненькой, с тоненькими конечностями и выпученными глазами. Нина страдала от постоянной головной боли. Бабушка говорила, что причина в таинственной родовой травме. Эта родовая травма, реальная или мифическая, делала Нину нетрудоспособной: голова начинала болеть сразу, как только Нина концентрировалась на чем-то дольше пары минут. К тому же у Нины было рахитическое сложение, а значит, на переменах ей угрожала смертельная опасность: здоровенные лбы — старшеклассники носились по коридорам как скоростные поезда — столкновения с ними Нина бы не пережила. В общем, ей оставались только щадящий режим и надомное обучение.