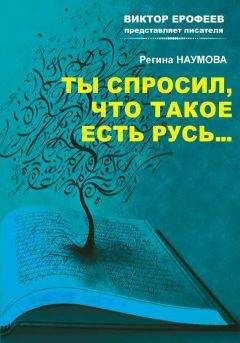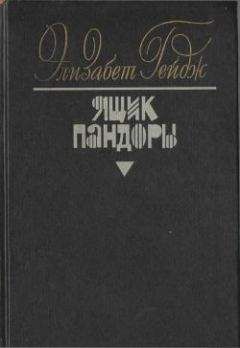– Да-да, спасибо, но где Пандора? – у Дария изо рта вылилась струйка слюны и растеклась по подбородку. Идиотский вид. Портрет олигофрена. – Ты же наверняка знаешь, куда она уехала… Признайся, я никому не скажу, – и, как малый ребенок, скривился, как бы закапризничал и, прижав руку к глазам, заплакал… И тихо плача, сглатывая слезы и вместе с тем улыбаясь обезумевшими от тоски глазами, он принялся малевать на холсте беспорядочные линии, квадраты, кружки́, и делал это так, как делают дети, которым в руки попал карандаш с бумагой… То были бессмысленные, случайные движения, и, видя это, Медея тоже заплакала и пошла одевать для прогулки Шока… А в это время Найда, вскочив на мольберт, мордочкой пыталась достать до руки Дария и даже встала на задние лапки, но рука художника была неуловима, она подобно бабочке перемещалась в пространстве, и Найде ничего не оставалось другого, как только с интересом наблюдать за хаотическим порханием этой бабочки…
Когда рука устала, он с раздражением бросил карандаш на мольберт и принялся разводить краски. Выдавил больше, чем полагается, сдернул с кистей газетные колпачки и одну кисточку окунул в радужное озерцо выдавленной на фанерку краски… Затем перенес тон на полотно. И это первое соприкосновение кисти с тем, что было изображено карандашом, произвело разительную смену в его лице, придав ему осмысленное и одухотворенное выражение. Дарий вовлекался, въезжал, влетал в какую-то одному ему ведомую сферу, где не было места ни тоске, ни гимну, ни тем более страхам, ибо в глазах его таились не тени и не сумрак заката, а светилось сияние восхода, светоносная гамма пробуждения… «Отрада моя, вереск души моей, мальвы, флоксы моего обоняния, мокрые ваньки моей тоски, прямостоящий несгибаемый эректус, герань ясноцветная, роза моего убогого бытия, я вас обожаю… Мои дорогие алоказия, афеландра, ахименес, незабвенный мой гиацинт, бутоны моей юности, жасмин, недотрога, услада моей глупой зрелости, камелия, примула, колокольчик и, конечно, как же без них, комнатная герань, фуксия, эхме… И не обижайтесь, если я вас забыл полить, я был не в себе… Я был где-то там, отсюда не видно… Простите мою тупость, я лишь жалкая преамбула к рождественским иллюминациям…»
Когда Медея вернулась с прогулки и сняла с Шока поводок, она подошла к мольберту и взглянула на то, что там живописно осуществилось…
– Ой, Пандорочка… Ты нарисовал мою дорогую Пандорочку? – Всплеснула женщина руками. – А почему она без бровей? – на лице Медеи изумление и откровенная растерянность. Она ждала ответа и боялась – не сморозит ли он еще какую-нибудь несуразицу. Больной человек! Что взять, куда кинуть?
– У мадонны и не должно быть бровей… Тогда она будет не мадонна, а обыкновенная домохозяйка, – и Дарий, отступив от мольберта, оценивающе всмотрелся в изображение.
– А почему на ней ошейник? Или это какое-то жабо? И прическа не ее… Так обычно укладывала волосы Элегия… А лицом вылитая Пандорочка… Ох боже, где она сейчас и хорошо ли ей?
– Без ошейника ее бы не увели… Только пристегнув поводок, можно увести… И ей хорошо. Везде хорошо, таким мадоннам всюду мед… Вот только кончается сажевая краска, а мне еще надо тонировать складки ее плаща.
– Я никогда не видела у нее такой одежды.
– Это было давно, когда работала в поезде, в экспрессе, но не в этом дело… Я лучше знаю, я помню все до последней снежинки…
Дарий возбуждался, и Медея, понимая это, постаралась внести отвлекающую нотку.
– Когда еще была жива Элегия, ты просил меня почаще готовить вам голубцы. Я как раз наготовила, идем к столу. И голубцы, и картошечка горяченькие, салатик с огурчиками и лучком, попьем компотика… Но ты можешь не спешить, я схожу домой и вернусь.
Женщина ушла, оставив его с вещественным доказательством покинутости. А Дарий, сняв с мольберта нарисованный портрет, заменил его незагрунтованным куском картона и снова взялся за кисти. Но основа без грунтовки – ледяной каток, по которому впустую расползаются щетинки кистей… А между тем его губы произносили какую-то заумь, вряд ли самому понятную: «Ратифицирован кварк на поверхности радужной оболочки глаза в результате свет приобрел свойства оставлять следы в вещественной гамма-проявленности сезонность природной ракушечной плазмы определяется летом так как кобальтово-ванадиевые молекулярные решетки содержащиеся в ней и определяющие ее синтезность вечностью приобретают конусную структуру только при температуре 0 °C в горных реках забвения или конструкция воздушно-плазменной новизны определяется небытием прозаичности».
О боги, правдива смерть, а жизнь бормочет ложь…
За неделю Дарий исписал весь запас картонок. На свет появились еще двадцать две Пандоры и столько же Элегий, которых он расселил в каждом углу, а также на тахте, на секции, платяном шкафу и даже в ванной комнате, прибив картинки к стенам, что, собственно, и явилось его «небытием прозрачности». Это было целое собрание сочинений на тему… И только последнюю картину можно было считать завершенной: Пандора на ней была точно такой, какой он увидел ее впервые, то есть 13 мая Того года. И на ней не было ошейника, и ее очарованный взгляд венчали две изгибистые, выразительные брови, напоминающие летящих птиц. И этим была поставлена точка. Он как бы вышел на свет, хотя депрессия еще крепко держала его в своих терновых объятиях. Но случилось главное: квадрат гипотенузы любви уравнялся с суммой квадратов катетов всепрощения и продолжения жизни…
Вечер ушел на ее комнатный палисадник. Сырой губкой Дарий протер все горшки, листья розы, столетников, колючий ствол эректуса, полил всех до одного зеленых братьев и, когда это делал, ощущал в голове тяжелый звон, ибо работать приходилось в наклонку. В какие-то моменты, при воспоминании (например, о том как они покупали герань в летнем цветочном магазине, у которого вместо крыши – целлофановая пленка и оттого было ощущение, что находишься в парнике) той или другой совместной минуты из глаз вытекала влага и падала на окатыши и ракушки, которыми Пандора обкладывала в горшках растения. Это, по ее мнению, вносило некоторое разнообразие и придавало цветнику японскую упорядоченность… Святая наивность. А как она в первые годы жизни старалась благоустроить дом и как он ей мешал! Ревнивый амур с его отравленными стрелами. Малый гаденыш. Карлик с крылышками.
Луною освещенный сад,
Мой старый сад души,
Там где-то был закопан клад —
Любовь моя, ты поищи…
После уборки домашнего палисадника, когда Дарий искал в гардеробе майку, наткнулся на старую ее комбинашку. Оливкового цвета, с тонкими бретельками, по колено, сексуальная, не раз во время сои… она была в ней. И снова тихое, словно арктическая полночь, слезливое страдание. А потом он увидел на трюмо ее пилку для ногтей, в ванной – пемзу, которая перешла к Пандоре от Элегии и которой они стирали с пяток наросты… нитки, ее иголки, с помощью которых она чинила свои трусики и бюстгальтер, ее мелкие вещицы, которые не посчитала нужным взять с собой, подумаешь, нищенские щипчики для ногтей, старая помада в золотистом футлярчике, истоптанные тапки, записка, на которой она писала ему задание (что купить в магазине), солнечные очки со сломанной дужкой, случайно завалившаяся за шкаф прокладка, а в массажной расческе… Этого он уже не мог вынести… Он вытащил из зубьев все до одного ее волоска и целовал, целовал, пока не опомнился. И что удивительно: впервые за долгие дни ощутил, как его Артефакт сделал ленивое движение и вроде бы начал… Гнусная тварь! Тоже порядочный гаденыш, который… Впрочем, ему осталось недолго безобразничать, рано или поздно (ну разумеется, лучше позже) депрессия его согнет в бараний рог и – крышка, вся власть перейдет к разуму, рассудку, здравомыслию, формальной логике, логике модальной, неклассической, логике предикатов, наконец, к логосфере, к натуралистической философии и, конечно же, к духовной чувственности… «Но пока я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю… Я сепаратор физудовольствий, развращенное скопище метахондрий, маргинальный рукоблуд, слезливый арьергардист…» Два «медвежонка», презервативы, остатки какого-то крема любви, шарики он собрал в целлофановый пакет, вынес на улицу и похоронил под яблоней. Финита! Представление окончено. Но когда он увидел фотоальбом, а открыв его, узрел давнишний их с Элегией снимок (кажется, дело было в Крыму, в парке Гурзуфа, и Элегия с бутылкой кумыса сидит на лавочке, а он, Дарий, с сигаретой во рту, рассматривает свежий номер «Курортной газеты»), из Дария вышел весь дух… Прошлое, которое постоянно жило в нем, обжигало и холодило, и которое ни при каком раскладе нельзя вернуть, ввергло его душу в бесконечное увядание. Не расстилая постель, он улегся на диван и, накрывшись с головой одеялом, попытался отойти в сновидения, в надежде увидеть в них Ее… Когда он дотронулся щекой до подушки, отчетливо ощутил устаревшие ароматы ее любимых духов «Сандал». И кремов для лица, и совсем далекий пых шампуня, которым она удабривала свои волосы… «Лучше мне сдохнуть, чем со всем этим жить». Однако, почувствовав, как рядом с ним примостилась Найда, а в ногах закопошился Шок, что-то с души Дария спало, даже легче стало дышать, и он, согреваясь собственным теплом, отгоняя воспоминания, забылся тихим сном, в котором не было места ни страхам, ни упрекам… Ах, человек, смешное существо, вся мудрость – в легкомыслии его…