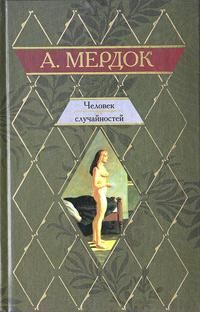Разумеется, он никогда не узнает, сколько времени понадобится ей, чтобы исцелиться? При мысли, что она осознала свое состояние двадцать минут назад и уже думает об исцелении, слезы потекли из закрытых глаз Мэри, смешиваясь с потом на ее блестящем лице и падая в теплую траву. Нет, она не будет думать об исцелении. Она чувствовала, что ей уже никогда не исцелиться. С этим придется жить. А он не должен никогда узнать об этом. Она не выдаст себя ни жестом, ни вздохом, ни взглядом.
Тем не менее, через два дня, похожих на настоящую агонию, она поняла, что должна увидеть его. Она просто повидает его, скажет несколько общих фраз и уйдет. Но она чувствовала, что должна увидеть его или умереть. Она должна поехать к нему. Больная от страсти, она поехала в Лондон, позвонила ему и спросила, не может ли она ненадолго зайти к нему перед обедом.
В его присутствии она испытывала экстаз боли и мольбы. Ее острая радость от его присутствия пробивалась сквозь ее заурядность, ее глупость, ее неспособность сказать что-нибудь необычное. «О, Джон! — кричала она внутри, как будто прося о помощи. — О, мой дорогой, помоги мне вынести это!»
Джон Дьюкейн, опершись о спинку стула, созерцал маленькую круглую головку Мэри, похожую на головы Энгра, ее бледно-золотистый цвет лица, очень маленькие уши, за которые она заткнула пряди прямых темных волос.
Джон Дьюкейн думал про себя, почему я оказался в такой ужасной и абсурдной ситуации? Почему я такой ужасный осел? Почему я так неуместно, неожиданно, ненужно и неопровержимо вдруг влюбился в свою старую подругу Мэри Клоудир?
Дьюкейну теперь казалось, что его мысли уже давно обращались к Мэри, прибегая к ней инстинктивно, как животные или дети. Важным был момент, когда он подумал о ней: у нас одна система ценностей.
Но уже давно знал, прежде чем ясно сформулировал, что у нее было схожее представление о морали, а это очень важно. Ее способ существования дарил ему душевное и даже метафизическое спокойствие, веру в мир и в реальность добра. Нет любви, которая ничего не стоит, даже когда фривольное льнет к фривольному, а низменное к низменному. Но в самой природе любви таится различение добра, и высшая любовь, в какой-то степени, — это любовь к хорошему. Дьюкейн сознавал, всегда сознавал, что он и Мэри сообщаются лучшим, что в них есть.
Огромное уважение Дьюкейна к Мэри, его вера в нее, его понимание ее добродетелей создали фон для чувства, которое под влиянием всех его сложных нужд переросло в любовь. Возможно, теперь он идеализировал ее и влюбился в нее в тот момент, когда сказал себе: она лучше меня. По мере постепенной потери большого уважения, которое он раньше питал к самому себе, он нуждался в образе человека, в котором бы воплотился более высокий образ. Его отношения с Джессикой, его отношения с Кейт, в каком-то тонком смысле именно отношения с Кейт, окончательно запутали его. Он хотя привык думать о себе хорошо, но теперь он потерялся, и воля его ослабела. Он начал нуждаться в Мэри, когда почувствовал нужду в более высоком представлении о самом себе. Она создавала утешающее равновесие его нынешней низкой самооценке.
Еще она была, понял он, матерью-богиней. Она была матерью для всех в Трескомбе. В этом свете простота ее роли виделась ему почти в мистическом ореоле. Она преобразилась для него благодаря его ревности к Вилли, ревности, которая удивила его самого, проявившись вначале как необъяснимая депрессия, простой недостаток благородства. Эта ревность очень отличалась от ревности к Октавиену, которую он ненадолго ощутил, когда потерял Кейт. Ревность к Октавиену обнажила его собственную ситуацию как непорядочную и идиотическую. А ревность к Вилли заставила его почувствовать: это моя девушка. И вслед за этим: я хочу эту девушку. Она моя.
Ему казалось теперь, и это только обостряло боль, что он побуждал ее выйти замуж за Вилли только из чувства вины и ощущения собственной неудачи с Вилли. Разумеется, она не должна узнать о его чувствах и Вилли тоже не должен узнать. Как только они поженятся, он будет абсолютно избегать общения с ними. Я выпаду из этой истории, подумал он. У него было тяжелое чувство, что он оказался в полной изоляции: все покинули его, а женщина, которая могла бы спасти его, была увлечена другим.
Он смотрел на Мэри. Все его тело болело от ощущения того, как много она могла бы сделать для него. Причиняя себе намеренно острую отрезвляющую боль, он спросил:
— Как поживает Вилли?
— О, очень хорошо, полагаю. То есть лучше, чем обычно.
— Когда вы поженитесь? — спросил Дьюкейн.
Мэри поставила стакан на мраморный восьмиугольный столик. Она покраснела и затаила дыхание:
— Но я не собираюсь выходить замуж за Вилли.
Дьюкейн обошел кресло и сел в него:
— Вы говорили, что срок еще не определен.
— Это вообще не произойдет. Вилли не хочет жениться. Все это было ошибкой.
Она выглядела такой несчастной.
— Извините, — сказал Дьюкейн.
— Я думала, Кейт рассказала тебе, — сказала Мэри. Она покраснела и упорно смотрела на стакан.
— Нет, — сказал Дьюкейн. Он подумал, что лучше я скажу ей: «Кейт и я… ну, не думаю, что мы будем видеться так же часто, как прежде… по крайней мере, не так…»
— Ты всерьез поссорился с ней, — спросила Мэри очень тихо.
— Нет, не всерьез. Но… я лучше расскажу тебе, хотя это не улучшит твое мнение обо мне. Я был раньше связан с одной девушкой в Лондоне, а Кейт узнала об этом, ей не понравилось, что я лгал, а я, действительно, лгал. Все это довольно запутанно. И это все испортило. Глупо было с моей стороны воображать, что я могу манипулировать Кейт.
Не так я говорю, подумал он. Все это кажется еще ужаснее. Она всегда будет думать обо мне плохо.
— Понимаю, девушка… понимаю.
Он сидел в напряженной позе.
— Вы, наверно, расстроились из-за Вилли, простите.
— Да. Он вроде бы отверг меня.
Она любит его, подумал он, она любит его. Со временем она уговорит его. О, Боже.
Мэри начала медленно подбирать свое пальто, лежавшее у ее ног.
— Что ж, я надеюсь, вы будете счастливы, Джон, счастливы с… Да.
— Не уходите, Мэри.
— У меня свидание.
Он застонал про себя. Ему хотелось обнять ее, он хотел все рассказать ей, он хотел, чтобы она поняла.
— Разрешите мне подарить вам что-нибудь, прежде чем вы уйдете, что-нибудь, что вы возьмете с собой. — Он поспешно оглядел комнату. На столе на груде каких-то бумаг лежало французское стеклянное пресс-папье. Он схватил его и бросил Мэри на колени. В следующее мгновение он увидел, что она рыдает.
— Что случилось, сердце мое? — Дьюкейн встал на колени рядом с ней, отодвинув стол. Он прикоснулся к ее колену.
Прижимая пресс-папье к юбке и сморкаясь, Мэри проговорила:
— Джон, вы подумаете, что я сошла с ума, но вы не беспокойтесь. Я должна вам кое-что сказать. Не могу уйти от вас, не сказав это. Я не любила Вилли по-настоящему. Я любила Вилли очень, я его любила, но это не настоящая любовь. Я знаю, на что похожа настоящая любовь и какая это ужасная вещь. Я не должна бы говорить вам это. У вас есть девушка, и вы были так необыкновенно добры ко мне, я не должна бы беспокоить вас и лучше бы промолчать об этом…
— Мэри, ради всего святого, о чем вы говорите?
— Я люблю вас, Джон. Я влюблена в вас. Простите. Я знаю — это невероятно, и, возможно, вы мне не поверите, но это правда, я очень виновата. Я вам обещаю, что буду вести себя разумно и не буду надоедать вам и не буду настаивать на встречах, теперь вы и не захотите видеть меня… О, Боже! — она спрятала лицо в носовой платок.
Дьюкейн поднялся. Он подошел к окну и посмотрел на прекрасную герань, на прекрасные машины и голубое вечернее небо, в котором летело множество прекрасных самолетов к лондонскому аэропорту. Он постарался контролировать свой голос.
— Мэри, вы действительно договорились с кем-то пообедать?
— Нет. Я просто так сказала. Извините, Джон. Я ухожу.
— Я прошу вас остаться и обсудить ситуацию. В доме полно еды, и у меня есть бутылка вина.
— Нет смысла обсуждать это. Это только ухудшит все. Нечего больше сказать. Я просто люблю вас. Вот и все.
— Это только половина дела, — сказал Дьюкейн. — Возможно, за обедом вы узнаете вторую половину.
— Это действительно случилось?
— Да.
— Ты уверен, что делал все правильно?
— Господи, уверен!
— Ну, мне не понравилось.
— В первый раз девушкам это всегда не нравится.
— Может быть, я — лесбиянка.
— Ну и глупости, Барби. Тебе хоть чуточку понравилось?
— Ну, вначале немного.
— О, Барби, ты такая чудесная, я обожаю тебя.
— Что-то впилось мне в спину.
— Надеюсь, ты не на моих очках лежишь.
— К черту очки. Нет, это всего лишь корень плюща.
— Ты разметала столько листьев плюща кругом.