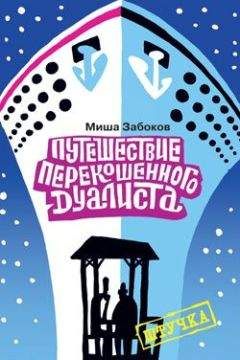Столь беспощадный диалог автора с действующим лицом им же созданного произведения мог бы озадачить любого литератора. Иной сочинитель десять раз вначале подумал бы, прежде чем отважился на такую авантюру, как будить, пусть даже не взаправду, неудобный для себя персонаж. Но мне уже было абсолютно нипочем, потому что я всё больше и больше погружался в сонно-гипнотическое состояние с научной точки зрения — пограничное между социальной апатией и общим наркозом, а с общежитейской — не отличимое по сути от состояния Толяна. Однако еще до того как окунуться в пучину бессознательного, я часто и глубоко задышал, рассчитывая таким образом провентилировать легкие и насытить кровь кислородом, который понадобится мне при глубоководном погружении. Хотя воздух в салоне самолета был уже частично загазован, тем не менее, он всё еще сохранял в себе притягательное обаяние дальних странствий, и я вдыхал его с такой жадностью, словно всего себя хотел им наполнить, целиком пропитаться им изнутри, чтобы надолго запомнить густой аромат знойного сирокко, пленительную свежесть соленой морской волны, красно-бело-зеленую гамму ползущих к небу, по холму, игрушечных домиков с черепичными крышами, легкое, волнующее дыхание весны и стойкий, ничем не перешибаемый дух какого-то вызывающего, нарочито-наглого, массового, повсеместного безделья, а также ежедневную праздничность атмосферы чужой, кажущейся ненастоящей жизни, проживаемой легко и непринужденно, без геройства и самопожертвования, всё равно с кем — с лейбористами, консерваторами, республиканцами, демократами, размеренно и в ладу с самим собой, а еще звенящий колокольчиком голосок Мирыча и ее распахнутый, устремленный на этот карнавал красок, ароматов, звуков пораженный взгляд, в котором восторгом искрилось по-детски наивное изумление: «Ну просто полный отпад!»
В этот момент на световом табло зажглась предупредительная надпись — «Не курить!» — так я и не курю! — «Пристегнуть ремни!» — есть пристегнуть ремни! Судорожным взмахом руки я взял под козырек и машинальным движением еще туже застегнул брючный ремень. Похоже, мы подлетали к границе Московской области. Такой поворот событий не застал меня врасплох, я был готов к нему заранее: привел кресло в вертикальное положение, пригладил волосы, похлопал себя по внутреннему карману пиджака, проверяя — на месте ли паспорт, весь подобрался, приосанился, после чего, будто выполняя команду «вольно!» и продолжая безотчетные механические действия, сосредоточенно уставился в иллюминатор, чтобы уже отсюда, из самолета, разглядеть тяжелый, насупленный взгляд встречающего меня пограничника, но пробиться к его стойке мне мешала сменившая за бортом сизую прозрачную дымку сплошная пелена грязно-серых облаков. «На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят…» — непроизвольно пронеслось у меня в голове. Тогда я попробовал переключить внимание на что-то более доступное, но не успел я еще выбрать подходящий для этого объект, как неожиданно услышал чей-то задорный звонкий смех. Поскольку Толян по-прежнему спал беспробудным сном, — хотя, если бы он даже и проснулся, то чего бы ему, спрашивается, заливаться безудержным хохотом, когда в сенях его давно поджидает Надя с ненавистным подойником в одной руке и увесистой скалкой в другой? — я внимательно огляделся вокруг. Смех лился со стороны первых рядов салона, где, весело чирикая, расположилась стайка итальянских туристов. «Вот поди ж ты! Ничто человеческое итальянцам не чуждо. Подобно мне, окрыленному радостным предчувствием скорого праздника, летевшему в Лиссабон с таким идиотски-счастливым выражением лица, что даже аэрофлотовская бортпроводница не утерпела спросить — всё ли у меня в порядке, — то же бесподобное чувство испытывали и итальянцы. Их тоже манил пьянящий дурман свободы, влекло сладостное предощущение близкого праздника. Впрочем, постой, о чем это я? Какие праздники? Мы куда летим? Расслабился, салага? Смирно!»
Терзаемый недоумением относительно возможных причин возникновения смеха на самолете, следующем рейсом Рим — Москва, я почувствовал некоторое беспокойство, которое переросло уже в растерянность, как только я отчетливо уловил в руладах доносящегося гогота отдельные слова, произносимые по-русски. «А не сбились ли мы часом с намеченного курса, — мелькнула у меня смелая мысль, — о чем раньше других успели догадаться „русскоязычные итальянцы“, ближе всех сидевшие к кабине пилотов? — Я снова посмотрел сквозь стекло иллюминатора, но там нас по-прежнему обступала непроницаемая мгла объятого тишиной сурового края. — Нет, с курса мы, похоже, не сбились. Курс у нас, у товарищей-господ, — неизменно верный! Тогда что же? Чего они так весело гогочут? Что их так развлекает? Откуда в них столько фонтанирующего воодушевления? Что они знают такого забавного, чего не знаю я?» Я прямо-таки терялся в догадках. И не находя простого и четкого ответа на эти мучительные вопросы, я решил, что смех может исходить либо от жизнерадостных соотечественников, предвкушающих наслаждение от своего скорого участия в битве за возрождение потускневшего российского величия, либо от экстремистски настроенных противников капитализма и глобализации экономики, современных эпигонов троцкизма — одним словом, леваков, направляющихся в Россию, чтобы перенять наш богатый исторический опыт несокрушимого сознания.
Судя по тому, как самолет начал время от времени проваливаться в воздушные ямы, мне окончательно стало ясно, что мы приступили к стремительному снижению. Эта обычно завораживающая всякого пассажира часть полета на сей раз меня нисколько не заинтересовала, потому что с гораздо большей стремительностью, намного опережая лёт железной птицы, я уносился в страну грез и спящего разума, где единственным уголком, способным вызвать душевный трепет, а также послужить надежным укрытием от докучливых зазывал, вновь призывающих меня в срочном порядке бежать к избирательным урнам, и без того под завязку заполненным прахом моих несбывшихся надежд, оставалась зеленая лужайка под высокой березой и мелким орешником, — та самая лужайка, куда в летний погожий денек так любит невзначай захаживать мой кореш Толян, чтобы после нескольких стопок там же уютно прикорнуть возле баньки неподалеку от мной сколоченной лавочки, дожидаясь в упоительной неге Надиного прихода. Но в этот год мне туда уже точно не светит.
А вот на следующий…
Загрузив в купе плацкартного вагона рюкзаки, ведра, рассаду, Мирыча, истерзанную болезнями маму вместе с двумя ее собаками и собственного королевского пуделя Люську, я встану с сигаретой в зубах на площадке тамбура, прижмусь плотно спиной к его стенке, поверну голову строго по ходу движения поезда на северо-запад и под неспешный перестук вагонных колес полностью обновленного состава, порвавшего с прошлым настолько, что вместо таблички Москва — Рыбинск на нем уже красуется надпись Москва — Сонково, вместо Савеловского вокзала он отправляется в свой «великий поход» уже с Белорусского, а взамен прежнего неторопливо-прогулочного хода до Весьегонска на протяжении полусуток теперь он способен домчать нас туда уже за каких-то 17 часов, — так вот, я выйду в тамбур, уткнусь взглядом в стекло и всю ночь напролет стану неотрывно всматриваться в проплывающие за окном фонарные столбы, даже не подумаю сменить позу, если вдруг какой доброхот и попытается ослабить мое внимание заманчивым предложением раздавить по маленькой, чтобы разгадать наконец непостижимую тайну весьегонского маршрута, — отчего это вдруг после Калязина мы уже движемся в обратном направлении; и когда эта мистика откроется мне во всей своей полноте, я уже буду наблюдать за перестановкой состава в Сонково совершенно другими глазами, — глазами человека умудренного и с ясным пониманием смысла российской жизни, без которого мне никогда бы уже не осилить иной неразрешимой загадки, — чем вызвана двухчасовая стоянка поезда в Овинищах? только ли тем, чтобы придать нашей и без того незабываемой поездке еще один яркий штрих пленительного очарования, какому неминуемо поддастся каждый из нас, заблаговременно охваченный страстью к сбору грибов и морошки? А когда уже и с этой загадкой будет покончено, когда и с нее спадет таинственный покров, я надеюсь, что мне удастся более доходчиво, чем сейчас, растолковать Толяну — естественно, предварительно мне придется его всё же разбудить, — почему солнце встает на востоке, а садится тогда, когда магазин в Бараново уже закрыт, и, сквозь просветы в вековых соснах глядя из беседки на реку, мы еще долго будем с ним потешаться над столь простой разгадкой постигнутых нами закономерностей собственной природы, непреложность которых так же вечна, как раскинувшаяся перед нашими глазами необозримая гладь водного пространства, где, как в зеркале, янтарно-рубиновыми языками отражается восхитительная красота пылающего заката.