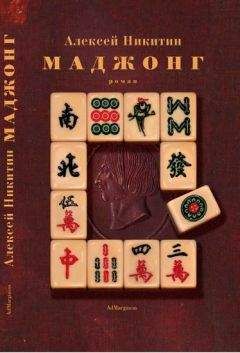Бидон ехал в Америку за свободой, а приехал к папе. У папы на Бидона были планы. Папа работал в большой компании, занимался софтом и давно уже хотел открыть свою небольшую фирму. Софт ведь не требует особого штата. Папа рассчитывал по-быстрому обучить сына и затеять дело на двоих. А для начала, по его мнению, Бидону надо было постричься и вернуть волосам их естественный цвет. Чтобы заказчики не шарахались при встрече, чтобы не вздрагивали и не хватались за пистолет полицейские, чтобы соседи, в конце концов, не принимали его сына за педика. Он так ему все и высказал, ничего не скрывая. В ответ Бидон устроил истерику.
— Папа, — рыдал он, — ты говорил, что здесь я смогу жить так, как мне нравится, и делать то, что захочу. Так вот, я не хочу стричься и перекрашиваться. Мне нравится как есть. Розовый — это мой естественный цвет.
— Заткнись! Это все твоя мать, она всегда была дурой и тебя воспитала дураком. Если хочешь тут остаться, чтобы завтра выглядел как человек!
Бидон хотел остаться в Америке, но постричься он не мог, иначе Америка теряла смысл. А еще ему не нравилось, что папа называет маму дурой. И новая папина жена, толстеющая манерная курица, ему не нравилась тоже.
На следующие день его хайер полыхал, как флаг Победы над Рейхстагом. Папа не сказал на это ни слова, но не прошло недели, и окна комнаты, в которой обитал Бидон, смотрели уже не на Кремниевую долину в Калифорнии, а на Батыеву гору в Киеве. Папа отправил его домой. Насовсем.
После этой катастрофы Бидон исчез. Где он был и чем занимался, не знает никто, кроме его мамы. По правде, судьба Бидона только ее и интересовала. Вернее всего, он лечился — ему было что лечить, а может быть, уезжал к бабушке или просто не выходил из дому.
Два года — срок достаточный, чтобы забыть любого, поэтому, когда он возник среди киевских поэтов и назвал себя Кириллом Звездочётовым (обязательно через «ё»), никто не удивился. Никто просто не знал, что чему-то следует удивляться. Звездочётов так Звездочётов, через «ё», так через «ё». Бидоном он стал позже.
За годы отшельничества он начал писать стихи. Его стихи были похожи на пауков — одним они нравились, у других вызывали отвращение, но печатать их никто не брался. А чтобы издать книгу за свой счет, нужны были деньги. Традиционные средства заработка Бидону не годились, его огненная масть безотказно отпугивала работодателей. Вот тогда, используя методы исключения, дополнения и законы своей изломанной и болезненной логики, он вычислил, что ради издания собственных новых книг следует торговать чужими старыми. Так Звездочётов оказался на Петровке.
Еще несколько лет он вживался в среду букинистов. Среда отторгала его, как могла, но со временем стерпелась, выделила низшую ступень в иерархии и присвоила кличку «Бидон». Почему Бидон? Отчего Бидон? Просто Бидон. Быть Бидоном ему шло, но он хотел быть поэтом Кириллом Звездочётовым, поэтому каждое утро, когда покупателей еще не было, Бидон прятался в дальнем углу павильона с тетрадью и ручкой и отключался от книжной торговли.
Если Бидону писалось, его лучше было не трогать, но если не писалось, то беспокоить его становилось опасно. Когда стихи не шли, Бидон начинал потрошить новые поступления. Ориентируясь по формату книги, по обложке, а чаще по ее отсутствию, по каким-то невидимым признакам, о которых посторонним никогда не догадаться, Бидон выуживал из кучи мятого, пожелтевшего книжно-бумажного хлама иллюстрированную жертву и быстро ее пролистывал. Если он ошибался и иллюстраций не было или были, но мелкие и неинтересные, книга тут же летела в соседний ящик, предназначенный для прошедших досмотр. Но если они были. Если они были, то Бидон считал день прошедшим не зря. Если они были, жизнь Бидона становилась красочной и яркой, как его голова.
Он называл их груздями, иногда — груздочками. Настоящих груздей Бидон, пожалуй, никогда и не пробовал, но слово ему нравилось. Обнаружив иллюстрацию, годящуюся в грузди, Бидон сперва внимательно читал подпись, а потом выуживал из текста книги все, что касалось изображения. Он делал это, как обычный читатель, внешне ничем не выдавая своих планов, но сам же в это время словно приглядывал за собой со стороны, стараясь разглядеть и понять, в какой момент судьба груздя решится окончательно.
Ощущение силы и власти нарастало все время, пока он читал написанное, пока, поглаживая подушечками пальцев изображение, несколько раз переворачивал страницу с груздем, сравнивая его с текстом. Бидон прислушивался, как шуршит этот лист, смотрел, аккуратно ли он вшит в тетрадку и ровно ли обрезан, принюхивался, чем он пахнет, только ли пылью или еще чем-то особенным, прислушивался к своим ощущениям, и когда наконец все соки были выжаты, собраны и выпиты, он одним движением вырывал страницу из книги. В этот момент Бидон чувствовал, что способен на все, и стихи были меньшим из возможных проявлений его власти над миром вещей и людей. Мысли о большем иногда приходили к нему, но он сам же их и боялся.
А несчастный груздь шел под стекло, помещался в рамку и вывешивался на стене павильона. Среди десятков других. Если груздя когда-нибудь покупали, то в тетрадке, над первой строкой стихотворения, соответствовавшего купленному груздю, Бидон ставил небольшой крест, само стихотворение теперь считалось «мертвым» и публично не читалось уже никогда. В книги своих стихов — за время работы на Петровке Бидон их выпустил две — он включал только «мертвые» стихи.
На работу Бидон приходил так рано, как мог, стараясь растянуть эти утренние часы. Ради них он жил, и не было для Бидона ничего хуже, чем утро, изуродованное нежданным покупателем.
Регаме со своим дурацким плащом, с грубыми и несмешными шуточками, с подглядыванием — Бидон был почти уверен, что тот разглядел иллюстрацию из Майринка, — испортил ему все. Если бы не Регаме, эта гравюра могла стать отличным груздем. А какое он мог написать стихотворение. Чертов старик!
Бидон захлопнул Майринка и бросил его в большой полупустой картонный ящик, потом скомкал страницу с рисунком, сунул ее в карман, захлопнул тетрадь и пошел пить чай. День был испорчен.
— Скажи мне, мой старый друг Качалов, отчего это я третью игру подряд собираю по два конга на бамбуках, а маджонг все не идет? — раздраженная Сонечка сбросила никому не нужную двойку дотов.
— Возможно, дело в бамбуках, а возможно, и в тебе, — как всегда уклончиво ответил Старик Качалов.
— Качалова как ни спросишь, непременно получишь не меньше двух ответов.
— На то он и Качалов, — не промолчал Зеленый Фирштейн.
— Обижаете, — пожал плечами Старик Качалов, — двумя я, как правило, не ограничиваюсь; да, я так отвечаю всем. Мы живем в вероятностном мире, что же вы от меня-то хотите? Чтобы я изменил его природу?
— Но ведь бывает и так, что причинно-следственная связь очевидна? — заинтересовался разговором Толстый Барселона.
— Когда она очевидна, меня, как правило, ни о чем не спрашивают.
Старик Качалов работал в экспертной комиссии. На визитке он, не вдаваясь в детали, писал «эксперт». Качаловым он стал именно из-за привычки раскачивать собеседника, попеременно предлагая несколько ответов на поставленный вопрос. Изменил своему правилу он только один раз, когда комиссии поручили подготовить решение по языковому вопросу: только украинский или украинский и русский?
В стране, где все с рождения знают оба языка, эта проблема по большому счету никого не беспокоит. Все следят лишь за соблюдением сложившегося статус-кво и только угрожающе топорщат колючие наспинные плавники, когда какой-нибудь политик грозится его изменить. Поэтому заказ отдали на проработку Качалову, полагая, что уж точно никто не раскачает вопрос лучше него.
Но Качалов удивил всех, включая и его видавших всякое коллег. Он подготовил записку, содержавшую всего один вывод: русский язык создан украинцами и его следует признать собственностью Украины за границей.
Качалов начал с «Повести временных лет», написанной в трехстах метрах от его офиса, и не забыл никого. В записке были перечислены все богословы Могилянской Академии, которых Патриарх Никон пригласил в Москву приводить в порядок церковные книги, все известные украинские дворяне и разночинцы, писавшие по-русски.
Отдельную главку Старик Качалов выделил под экономику. Он прикинул, во что Украине обошлось развитие обоих языков. Вышло, что на русский потрачено раз в пять больше, чем на украинский.
— Ты же это несерьезно? — спросил Качалова Толстый Барселона, когда тот дал почитать ему записку.
— Отсутствие оснований — не основание, — засмеялся Старик Качалов. — Шучу. Но если разбирать по фактам, то ни один из них не оспоришь — тут всё правда. Ну а к цифрам, — да, к цифрам могут придраться, потому что методику расчетов пришлось на ходу придумывать. Но оно того стоило.