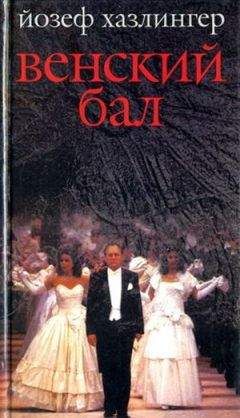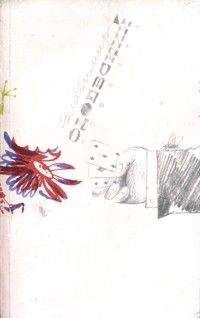Мы увидели заполненный танцующими парами партер и услышали инструментальную версию «Леди Мадонны». На переднем плане оказался господин с перекошенным ртом и широкой лентой, пересекавшей грудь. Он танцевал с супругой бундесканцлера. Комментатор сказал: «После стольких малоприятных сцен мы снова в блистательном мире Оперы. Давайте посмотрим на ложу немецкого фабриканта, короля напитков, которого причисляют к давним завсегдатаям этого бала балов».
Камера оторвалась от канцлерши и ее партнера, которого нам так и не представили, фигурки танцующих стали меньше, а их круг расширился. Затем по экрану медленно поплыли ложи, приближаясь к нам. Я надеялась увидеть отца, но лож у сцены не показали. Герберт подошел ко мне с бокалом шампанского. Он выключил звук и сказал:
– У нас два часа медового месяца здесь, в отеле «Империал». Об этом можно было только мечтать.
Мы поцеловались. Он плеснул мне шампанское в вырез платья и стянул его с меня. Но я бы не хотела посвящать вас в подробности. Так или иначе, это был чудеснейший час в нашей жизни. И под конец мы в полном изнеможении лежали на мокрых простынях. Сквозь закрытые окна доносился звук сирен. У меня пересохло во рту.
– Дай чего-нибудь выпить.
Он приподнялся и замер.
– Который час? – спросила я. – Тебе пора за отцом?
Он не ответил. Я посмотрела на него. С отвисшей челюстью Герберт уставился на экран, повторяя одними губами:
– Нет. Нет. Нет.
Я встала. На экране – ничего, кроме мертвых тел. Какой-то страшный сон. Я закричала. Герберт крепко обнял меня. Да, это были трупы в бальных костюмах, они лежали вповалку, с распахнутыми в ужасе глазами и открытыми ртами. По фракам и платьям стекала рвотная масса. Потом дали другую картинку. Здесь люди еще двигались. Я слышала их крики, хотя звук был отключен. Они взмахивали руками и вдруг падали замертво. Многие уже распластались на полу, а некоторые еще искали опоры, цепляясь за перила и парапеты. Я видела пары обнявшихся людей, хватавших ртами воздух, им удавалось какие-то секунды продержаться на ногах, после чего их тоже сокрушала неведомая сила. Меня охватил такой ужас, что я не могла вздохнуть. Хотелось кричать во всю глотку, но я не могла издать ни звука.
Герберт сказал:
– Оденься. Надо бежать к отцу.
Точно лунатик, я нашарила в чемодане какие-то тряпки. Кажется, я оделась. Но как это было, не помню. Провал в памяти. Я ничего не видела вокруг. Первое более или менее ясное ощущение реальности возникло на Рингштрассе, где мы стояли, напрасно пытаясь пройти в Оперу. Перед нами – сплошная стена синих сполохов. Всюду пожарные и санитарные машины. Со всех сторон на нас кричат врачи, полицейские и пожарные, требуя освободить дорогу. С какой бы стороны мы ни пытались подступиться к зданию, все было бесполезно. Нас просто отгоняли. В воздухе один над другим зависли вертолеты, четыре или пять. Самый нижний приземлился за Оперой, видимо на Альбертинаплац. Другие ждали, когда он вновь поднимется в воздух. Уши закладывало от рева динамиков. Хаос был невообразимый. Дальше всего мы продвинулись по Малерштрассе. Люди в противогазах вытаскивали трупы из-под аркад. Вскоре нас, как всех столпившихся здесь, оттеснили назад, чтобы освободить улицу для пожарной команды.
Мы бродили по округе, пока не выбились из сил. И тогда решили идти к Зигрид. Она смотрела помертвевшими от ужаса глазами, будто перед ней были призраки. Потом бросилась обнимать нас.
– Где отец? – был первый ее вопрос. И хотя я и не ожидала другого вопроса, он прозвучал для меня как слова Бога, обращенные к Каину: «Где Авель, брат твой?»
Герберт еще как-то владел собой. Он обнял Зигрид и попытался ей все объяснить. В квартире работал телевизор. На экране все еще сменялись разные планы зала. Они были так же неподвижны, как и тела, попавшие в кадр. Музыканты лежали на своих инструментах. Ни слова комментария. Мертвая тишина. Я не могла больше этого видеть и выключила телевизор. По радио передавали траурную музыку, то и дело прерываемую одними и теми же сообщениями. Говорилось о чудовищной катастрофе, никакими подробностями редакция не располагала. Герберт нашел в телефонной книге номера полиции и Службы спасения. До кого бы ни удавалось дозвониться, всюду его попросту облаивали, требуя не занимать линию. Сейчас-де не время для справок.
Когда уже рассвело, сообщили наконец номер, по которому можно узнать, не попал ли кто из близких в городские больницы. Дозвониться было невозможно. Но Герберт не сдавался. Я сидела рядом в кресле и слышала бесконечный процесс нажатия на кнопку повтора и одни и те же монотонные сигналы. Это длилось часами. Зигрид варила кофе. В конце концов Герберт не выдержал:
– Ну и черт с ними! Придется побегать!
Он собрался уходить. Я бы отпустила его. Поскольку уже мало что соображала. Но Зигрид удержала Герберта.
– Одно из двух, – сказала она. – Либо отца нет в живых и ты ему уже не поможешь, либо он в какой-нибудь больнице, и сейчас ты его не найдешь.
По радио передали, что больных отправили на вертолетах и в другие города: в Санкт-Пёльтен, Хорн, Цветтль, Баден, Винер Нойштадт, даже в Линц и Грац. Герберт остался и продолжил свои попытки дозвониться. В десять утра это удалось. У Зигрид был телефон с громкоговорителем. Мы услышали женский голос:
– Минутку.
Потом раздался шелест. Бесконечно долгий шорох бумаг.
– Имя?
Герберт назвал еще раз.
– Восемьдесят три года?
– Да. Он у вас?
– Его поместили в лечебницу Христа Спасителя.
Герберт положил трубку и прикрыл глаза. Мы смотрели на телефон как на дорогое существо.
– Ну так едем же.
Это была первая фраза, произнесенная мной за несколько часов. Зигрид вызвала такси. По крайней мере, на этот вид транспорта еще можно было рассчитывать. Мы проехали Шварценбергплац и по Принц-Ойгенштрассе поднялись к Гюртелю. На Южном вокзале развевались черные флаги. Их вывесили и на некоторых муниципальных домах. Поездка длилась не меньше сорока пяти минут. Вначале мы тешили себя надеждой. Потом возобладал страх. Отец мог находиться в ужасном состоянии. Герберт сказал:
– Если он лежит в больнице, значит, успел вовремя выйти из Оперы. Возможно, у него просто шок, и мы сможем забрать его домой.
Если бы это было так! На Гюртеле Зигрид попросила таксиста остановиться и купила букет красных роз. Мне было немного неловко, но я бы сочла себя идиоткой, если бы мне вздумалось купить сейчас цветы. Вы знаете лечебницу Христа Спасителя? Это маленькая больница на Дорнбахской улице. Там нас ждало следующее потрясение. Привратник долго рылся в списках, но фамилии отца не нашел. Зигрид объяснила, что его доставили ночью.
– Ах, вот как. Стало быть, бал в Опере? Чего же вы сразу-то не сказали? У меня еще нет на них списка.
Он позвонил куда-то и направил нас в отделение интенсивной терапии. Отец лежал в коме. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Старшая сестра впустила нас в палату. Нам показалось, что отец просто спит. Белоснежные волосы слегка растрепались, мерно попискивали приборы, посапывали трубки. Сменяя друг друга, мы прикасались к его руке, чтобы убедиться, что она теплая. Помещение было так плотно заставлено всякими приборами, что для цветов Зигрид не нашлось места. На стене висело большое распятие.
– Можно надеяться? – спросила Зигрид.
– Он один из немногих новеньких, которые еще позволяют надеяться, – ответила сестра.
Она попросила нас покинуть палату. Мы хотели поговорить с кем-нибудь из врачей. Но все они были так заняты, что пришлось ждать несколько часов, пока один из них сумел почти на ходу ответить на наши вопросы. Он сказал, что у моего отца – симптомы тяжелого отравления. От прогнозов лучше воздержаться. Но одно то, что больной еще жив и у него стабильный сердечный ритм, дает основания для осторожного оптимизма. Врач поспешно откланялся. Мы оставили номер телефона Зигрид и попросили старшую сестру сразу же позвонить, как только состояние отца как-то изменится.
В течение четырех дней никаких звонков из больницы не было. Тем не менее дважды в день мы ездили в лечебницу и всегда заставали все ту же ситуацию. У врачей находилось больше времени для разговоров с нами, но они по-прежнему мало чем могли утешить. Возможно, они хотели подготовить родственников к тому моменту, когда придется огорошить нас вопросом: может, имеет смысл отключить приборы? Ситуация становилась все более напряженной.
Дети уверяли по телефону, что отлично обходятся своими силами. Но однажды ночью Тим известил нас, что уже сутки не работает отопление. В доме – собачий холод. А они не знают, как выйти из положения. Для Герберта это стало последним сигналом. Он и так уже два дня улаживал дела по телефону и переносил сроки и встречи. Теперь была веская причина вернуться домой. Как только он улетел, нам позвонили из больницы – отец вышел из комы. Мы тотчас же отправились к нему. У него были веселые глаза. Он жал нам руки. Шланг аппарата искусственного дыхания теперь был подведен к носу, а не ко рту. Врач объяснил нам, что пока это еще необходимо, так как искусственное дыхание сопровождается медикаментозным лечением. Позднее будет предпринята попытка заменить постоянное подключение к аппарату несколькими ингаляциями в день. Отец силился заговорить с нами. Но мы не могли понять ни слова. Зигрид и я поочередно склонялись над ним, прикладывая ухо к самым его губам. Он старался лаконично и четко сформулировать мысль. Но получалось нечленораздельное клокотание, для артикуляции не хватало воздуха. И лучше было не прислушиваться, а угадывать смысл речи по движению губ. К тому же отец пояснял слова жестами руки и покачиванием головы. Нам пришлось подробно рассказать ему обо всем, что случилось.