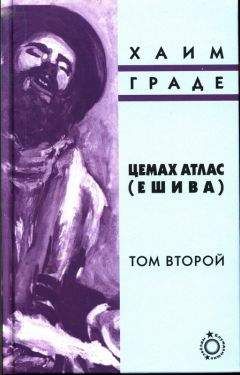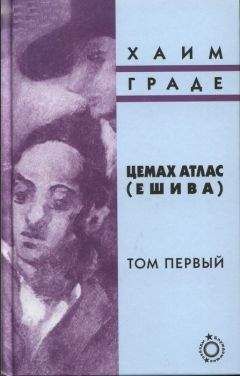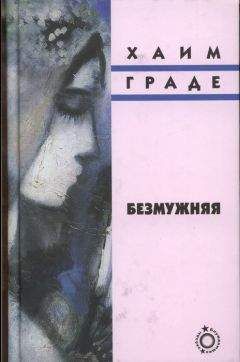— Ешиботники приходили спасать мою душу, когда надо было спасать мое тело, поэтому я и не хотел их видеть, — процедил сквозь зубы Даниэл-гомельчанин, все еще не поднимая глаз на гостя.
Цемах почувствовал к своему ученику то же отвращение, которое испытывали к нему другие ешиботники, и воскликнул:
— Неправда! Сыны Торы прежде всего заботились о вашем теле, а только после этого — о вашей душе. И что за грех в том, если, обслуживая вас, они хотели поговорить о Торе и о мусаре?
Даниэл с трудом выдохнул через заложенные ноздри и ответил еще недружелюбнее:
— Эти сыны Торы заботились о моем теле, чтобы спасти мою душу, как это делают монахини, приходящие в больницу к больным христианам.
Монахини в черных одеяниях с большими крестами на шеях не гнушались, тем не менее, и телом больного, а сыны Торы брезговали необходимостью обслуживать его. Точно так же, как мусарники ходят на кладбище, чтобы извлечь мораль из кончины человека, они приходили и к нему в больницу, чтобы посмотреть на пример жалкого человека. Они ему еще предлагали, чтобы и он сам брезговал своим телом, чтобы он хорошенько посмотрел на себя и испытал потребность в покаянии. Один из них, обслуживая его, вздыхал и ойкал без слов. Другой говорил открыто: «Смотрите, смотрите, во что превращается человек!» А третий напоминал ему долженствующие пробуждать веру слова главы ешивы, что если мы не заботимся о том, чтобы наш ближний получил место на том свете, мы вообще не заботимся о нем. И он выгнал их, его якобы преданных товарищей.
— В ешиве выдумали, что в больнице меня охватило нездоровое вожделение, чтобы женщины видели меня голым, и надо мной смеялись, потому что я не стесняюсь перед медицинскими сестрами своего отощавшего тела. Все, что обо мне рассказывали, — это ложь. Но я признаю, что мне было приятнее с оплаченными сиделками, относившимися ко мне, как к любому другому больному, чем с мусарниками, приказывавшими мне думать о более высокой жизни, пока я корчился от мучительной боли.
— А Генех-малоритчанин относился к вам иначе? — спросил Цемах.
— Иначе, потому что он сам был болен. Сразу же, как он пришел ко мне в больницу, я увидел, что он пришел помочь, а не спасать мою душу. Поэтому я и перешел к нему жить. Он, бывало, говорил, что есть глубокая мудрость в поговорке, что здоровый больного не разумеет. Человек, знающий, что его жизнь из-за болезни находится в постоянной опасности, — это совсем другой человек. Он тонет в своем теле, как в глине, находится в тисках своего тела, как в кандалах. Проводя время со здоровыми, он не забывает о пропасти, лежащей между ним и ими. Больной, который, по мнению докторов, жив только чудом, думает о себе, что подобен отражению человека в зеркале по сравнению с настоящим человеком. Так, бывало, говаривал Генех.
— Генех ведь был веселым парнем, очень веселым, хотя и больным, — пробормотал Цемах.
Он никогда не подозревал, что у малоритчанина бывают такие мрачные мысли.
Угловатое лицо Даниэла-гомельчанина скривилось в холодной гримасе, настолько же похожей на улыбку, насколько выкидыш похож на новорожденного.
— Больной может быть еще веселее и радостнее, чем здоровый. Но это веселье, приходящее после отчаяния. Так Генех ни на что уже не надеялся. Это видно по тому, что он сам всегда рассказывал сватам, что у него порок сердца, а потом со смехом изображал, как пугались сваты и родители невесты. Так что, увидев, что его квартирная хозяйка не пугается его болезни, он от радости, что она и ее семья верят, что он будет жить, пообещал жениться на ее дочери.
— А я думал, что он сделал это потому, что пожертвовал собой ради вас, — признался Цемах с явной неохотой.
— А как он пожертвовал собой ради меня? Он взял меня к себе, потому что увидел, что я понимаю его точно так же, как он понимает меня, — ответил гомельчанин с сухим кашлем и с холодной злобой неудачника, живущего за счет родных, но не считающего, что обязан их благодарить.
«Почему гомельчанин все время сидит, опустив глаза? — спросил себя Цемах и ответил себе самому: — Потому что уверен, что уже все видел, что только он прав и что он никому не должен доверять. Но в замке его платяного шкафа торчит ключик. Разве он не боится, что его квартирная хозяйка или ее дочь, его невеста, его обворуют? Он презренный человек!» — мысленно крикнул Цемах и заговорил с парнем так резко, как в те времена, когда был главой учебной группы:
— Товарищи не проявляли особой любви к вам, потому что вы сами не являетесь хорошим товарищем. Вы всегда были человеком для себя, только для себя одного.
— А что плохого, если и для себя?
Даниэл смотрел вниз на свои худые руки и говорил медленно, вдумчиво, но при этом из-за больших усилий, которые он прилагал, чтобы остаться спокойным, на его виске появилась голубая жилка. Первое время в ешиве он был из тех, кто старался делать ближним добро. Он отдавал свой кусок мяса, одалживал свое пальто, а сам мерз. Если он иной раз обижался на то, что из его сундучка все растаскивали без его ведома, ему напоминали мишну из «Пиркей Овес» о том, что тот, кто говорит «мое — это мое, а твое — это твое», не принадлежит к числу лучших в моральном отношении людей. Он уже умолял: «Берите!» А его продолжали поучать, что, мол, его «берите!» — это нечто слишком поспешное, слишком крикливое, как будто он сам себя заставляет. Но он все-таки не мог преодолеть свое недостойное желание иметь чистое полотенце, он все-таки не мог выносить, когда на его кровати разваливались в ботинках или когда Янкл-полтавчанин возвращал ему его шляпу измятой. Ешиботники ходят заросшие и завшивленные. Зимой они ленятся мыться холодной водой, и их руки обрастают грязью. Они пьют из немытых стаканов, а ему от этого так противно, что прямо тошнит. И почему ему нельзя иной раз для разнообразия отделиться от компании и пойти на квартиру прилечь на кровать, или пришить пуговицу к своей одежде, или написать письмо? Почему квартиранты должны приходить из дома мусара обязательно в два часа ночи и вынуждать его слезать с кровати босиком, чтобы открыть им дверь? Ведь можно сойти с ума от постоянного шума в синагоге, в доме мусара, на кухне и на квартирах. Во время тихой молитвы «Шмоне эсре» они тоже шумят, даже в леса для уединенных размышлений и молитв ходят вдесятером, вдвадцатером! Он хотел, чтобы у него был свой собственный уголок, чтобы он мог там спокойно выпить стакан чаю, чтобы посторонние не рылись бы, как муравьи, в его сундучке, чтобы не превращали его кровать в помойный ящик. Так какое же наказание ему за это причитается? От него отвернулись с ненавистью. А когда он заболел, к нему проявили еще большую враждебность. Товарищи обслуживали его с раздраженными физиономиями и с руками, дрожащими так, будто хотели его придушить. Сказать ему, что они его не выносят, они не могли, поэтому они велели ему думать о духовности и о том, что тело — это пепел и тлен. Один Ошер-Лемл-краснинец не забыл указание реб Исроэла Салантера, что надо заботиться о теле ближнего и о собственной душе, а не наоборот. И лучше всех знал это Генех-малоритчанин.
— И вы тоже, реб Цемах, когда-то стосковались по собственному углу и неожиданно, как бы между прочим, стали женихом, хотя из Нарева вы выехали с высокой целью, во благо всех. Так почему же мне нельзя иметь свой собственный уголок и сохранять свои вещи?
— Можно, конечно, можно. Прежде, чем я забрал вас из Гомеля в Польшу, ваши родители рассказывали мне, что вы с детства были аккуратным, чистоплотным и что, когда вы еще ползали на четвереньках, вы уже оберегали свои игрушки. Ну, в вас проявилось ваше торгашеско-обывательское происхождение. Но нет ни слова правды в вашей повторяющейся песне о том, что Генех-малоритчанин взял вас к себе, потому что видел, что вы похожи. Он взял вас к себе и ухаживал за вами, потому что он был противоположностью вам. До свидания.
В проходной комнате стояли две женщины, хозяйка и одна из ее дочерей, девушка с постаревшим лицом и с пробором в черных волосах над высоким выпуклым желтоватым лбом. Девушка держала поднос с едой и, видимо, никак не могла решиться зайти к квартиранту, пока у него сидит гость. «Наверное, невеста», — подумал Цемах, кивнул в знак приветствия и вышел на улицу. Вместо того чтобы испытывать сострадание к своему бывшему ученику, ему было только жаль невесту, которая стояла посреди комнаты с подносом, печально-усталая и ссутулившаяся, как будто она на улице под проливным дождем. Цемах не успел еще отойти от дома и на десять шагов, как его нагнала хозяйка.
Женщина с седыми растрепанными волосами, выбивавшимися из-под платка, и с узкими щелками глаз в сеточке морщин, оглянулась, чтобы проверить, не видно ли ее из комнаты квартиранта, и начала жаловаться, что она бедная женщина, вдова, у которой в доме есть девушки на выданье. Даниэл обещает, что женится на ее старшей дочери. И вот она боится, как бы глава ешивы не прекратил уже заблаговременно платить за его квартиру и содержание. Однако Цемах успокоил ее: покуда Даниэл нездоров и еще не подписал тноим с ее дочерью, ешива будет за него платить. Женщина снова оглянулась и вновь заговорила, беспокойно и как бы по секрету: