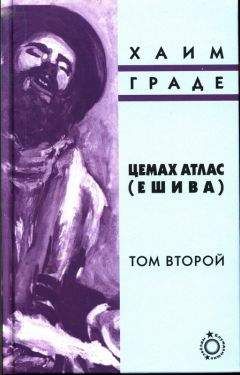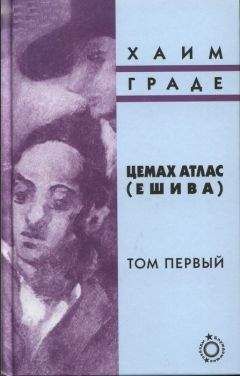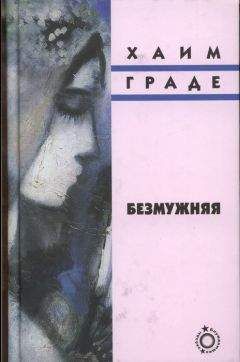— Никто из ешиботников не заходит к нему… Насколько я понимаю, вы его старший товарищ или ребе. Так скажите мне правду, ребе, он действительно собирается жениться на моей дочери? О прежнем, я имею в виду Генеха-малоритчанина, я бы не стала спрашивать. Тот, пусть ему земля будет пухом, был человеком совсем другого рода, но этот… Он вам ничего не сказал? Ведь нельзя обманывать бедную вдову!
— Он мне ничего не сказал, — ответил Цемах как-то странно ошеломленный, оттого что сам об этом не задумался. — Право, не знаю, что вам сказать. Я разговаривал с ним о других вещах.
Узенькие глазки хозяйки расширились. Из них выглянули зрачки, тяжелые и тоскливые, как у ее обеспокоенной дочери с пробором в черных волосах и с опущенными плечами. Женщина явно боялась переспросить, чтобы не узнать слишком много. Она вздохнула, оплакивая свою горькую вдовью судьбу, и потопала по подтаявшему снегу назад, в дом.
Поведет ли гомельчанин себя, как в Валкениках повел себя Йосеф-варшавянин, обманувший молодую кухарку в валкеникской начальной ешиве, или же гомельчанин честнее и действительно женится на дочери квартирной хозяйки? Цемах не мог дать себе ответ на этот вопрос и подумал, что, если даже гомельчанин сдержит обещание, он все равно ничтожный и скользкий человечишка. Он ведь убедил себя, что Генех-малоритчанин взял его к себе для собственной выгоды, а не ради него, не ради того, чтобы спасти больного; и что Генех стал женихом дочери хозяйки тоже для собственной выгоды, а не ради него. Любой парень в ешиве скорбит о смерти малоритчанина больше, чем он. Может, он боится, как бы его не сглазили из-за того, что он остался живым? Может, он еще и завидует усопшему из-за того, что того так расхваливают? Даниэл-гомельчанин знает, что его бы так не оплакивали и так бы по нему не убивались. У Мойше Хаята-логойчанина тоже есть претензии к Новогрудку, но он блуждает и ищет хоть что-то. Что он делает теперь и на что живет? Знакомых в светской среде у него нет, а ешиботники с ним не общаются. Надо ведь, по крайней мере, узнать, не голодает ли он… И вместо того, чтобы идти по протоптанной дороге от главной улицы к ешиве, Цемах побрел через сугробы боковых переулков к логойчанину.
По длинному, узкому и извилистому коридору, в котором он однажды, ночью прошлого Судного дня, уже нащупывал себе путь в темноте, он приблизился к комнатке, располагавшейся в дальнем конце. Из-за закрытой двери Цемах отчетливо услыхал разговор и узнал голоса ешиботников, которые еще мальчишками сидели в его группе аскетов.
— Судя по тому, что социалисты не верят в Тору, полученную с Небес, и не верят в то, что люди бедны или богаты по воле Провидения, они, с их точки зрения, не являются неправыми в своем желании переделать мир, — горячился Янкл-полтавчанин.
Логойчанин спорил с ним и говорил, что Янкл все еще мусарник. Только раньше он считал, что человек должен начать с того, чтобы переделать самого себя, а теперь считает, что невозможно переделать себя, если не изменить весь порядок жизни. Однако он остался мусарником и человеком, заботящимся обо всем мире.
— Я же не хочу ни о ком заботиться, я хочу наслаждаться жизнью.
— Если деление на богатых и бедных по сути несправедливо, то не может быть, чтобы такова была воля Провидения, — услышал Цемах голос Хайкла-виленчанина.
— Янкл-полтавчанин хочет воевать. А поскольку он увидел, что мусарники не хотят воевать за бедных торговок даже всего лишь с каким-то старостой благотворительной кассы, Янкла тянет к рабочим из профсоюзов, — рассмеялся внутри комнаты логойчанин.
— Я попал на сборище насмешников, — вздохнул кто-то, а другой добавил хриплым голосом что-то, чего Цемах не расслышал, как и не смог догадаться, кто это сказал.
Снова весело и громко заговорил логойчанин, как будто знал, кто стоит за дверью и ему было приятно дать ему понять, кто участвует в разговоре.
— Реувен-ратновчанин хочет меня убедить, что я каждый день налагаю филактерии для того, чтобы он мог ко мне заходить. А даже наревские обыватели, с детьми которых я изучаю Танах и древнееврейский язык, знают, что я не возлагаю филактерий.
— Ешива пребывает в трауре по Генеху-малоритчанину, а тут сидят, как в воровском притоне, и разговаривают о Всевышнем и о Его Мессии, — снова вздохнул Реувен-ратновчанин.
Однако логойчанин ответил ему еще увереннее:
— Малоритчанина тоже терзали сомнения. «Как это можно? — говорил Генех. — Кому позволено сказать человеку, что он скоро умрет? Даже когда безнадежный больной сам говорит, что чувствует близкий конец, окружающие не должны с ним соглашаться, потому что больной хочет, чтобы его слова опровергали. Да и какую ценность имеет исповедь сломленного приговоренного человека? Зачем Владыке мира нужна такая исповедь?» Я видел, что Генех-малоритчанин не может простить Геморе ее жестокого закона, согласно которому безнадежно больной должен исповедаться. Точно так же он не мог простить нашему главе группы, что тот мучил нас, заставляя переламывать себя. Хорошенького результата достигли ученики Цемаха-ломжинца! Да уж, он добился успеха! Недолго ему осталось сидеть в Нареве и изображать из себя вернувшегося с покаянием. Очень скоро ему придется держать ответ.
Парни пристали к логойчанину, чтобы тот пояснил, что он имеет в виду, говоря, что вернувшемуся с покаянием скоро придется держать ответ. Но логойчанин ответил, что пока это секрет. Цемах еще какое-то время прислушивался к звукам внутри, а потом медленно зашагал к выходу. Он шел по городу, полузакрыв глаза, он не помнил пройденных улиц и удивлялся, как попал в свою квартиру. Однако, когда он вошел в дом и хотел пройти в свою комнату, хозяйка вышла ему навстречу с довольным видом и рассказала, что его спрашивала какая-то женщина, еще молодая и красивая. Женщина сказала, что приехала из Ломжи и что она его жена.
В маленьком наревском отеле, как когда-то на валкеникском постоялом дворе, они сидели лицом к лицу и откровенно разглядывали друг друга. Слава видела перед собой еврея с впалыми щеками, скрытыми разросшейся бородой. Прежде, когда Цемах молчал, сила была заметна даже в его стиснутых зубах, а теперь за приоткрытыми губами виднелись его подпорченные зубы. Его сюртук был потрепан, протерт на локтях, полы засалены. Вместо верхней рубахи Цемах носил шерстяной арбеканфес, под горло. В осколке зеркала, висевшем на стене напротив нее, Слава видела, что и она тоже изменилась. В уголках ее рта скрывались морщинки, веки были продернуты голубыми жилками. Шея ее стала слишком тонкой и не такой свежей, как прежде. Ее волосы были все еще русыми, но уже не такими густыми и мягкими. Они были коротко подстрижены сзади, а спереди на лоб падала жесткая прямая челка. Конечно, жене еврея, посвятившего себя изучению Торы, не подходила такая прическа. Чтобы смягчить впечатление от нее, Слава приколола на свою коричневую с черными полосками блузку брошь с тремя подвесками. Но Цемах даже не заметил это старомодное украшение. Слава наклонила голову и посмотрела на свою брошь, ее глаза сошлись у переносицы так, что можно было подумать, что она косоглаза.
Подвески напомнили ей золоченые подсвечники на покрытом белой скатертью столе в доме ее отца. Ее братья и свояченицы тоже вели себя по субботам и праздникам по-еврейски, с благословением свечей и с кидушем. Когда они познакомились, Цемах своей внешностью и обхождением напоминал ей дом ее отца. Он был товарищем Володи со времен их совместной учебы в хейдере, она ему доверяла. Но он обманул ее доверие, и уже много лет у нее не было ни суббот, ни праздников. От ненависти к нему ее брат Володя больше не пускал на порог евреев, собиравших пожертвования на ешивы. Володя стал еще толще и ленивее, он больше даже не играл с котенком и с пригоршней монет. Наум стал совсем седым, он уже не орал, как прежде, и больше не вмешивался в общинные дела, потому что его собственные дела шли плохо.
— Знаешь, — сказала Слава, все еще глядя на прикрепленную к ее груди брошь, — Лола, сын моего брата Наума, женился и стал уже отцом. Он теперь в деле с моими братьями, солидный торговец. Ты слыхал об этом?
Цемах отрицательно покачал головой, и было заметно, что он совсем не сожалеет о том, что до сих пор не слыхал этих семейных новостей. Слава видела в зеркале его ссутулившуюся спину и который раз в жизни спросила себя: «Кто этот человек?» Но она сразу же вспомнила высокого Цемаха с четким бледным профилем, со строго сжатыми губами и с черным блеском в глазах, смотревших прямо в ее душу. Она все еще жила фантазией о том Цемахе, каким он был в первые полгода после их свадьбы.
Минутой раньше Слава еще не знала, что скажет своему мужу и скажет ли что-нибудь вообще. Но прежде чем она успела об этом подумать, она уже говорила с ним гневно и хрипло. Она напомнила ему ссору, которую он завел с ее родными из-за того, что Лола не женился на забеременевшей служанке. Но когда тот же самый Лола, ее племянник, женился и начал вести приличную семейную жизнь, это Цемаха не интересует! Лола заботится и о своем ребенке от Стаси. Этот ребенок и его мать живут в селе у евреев. Но и Стася с ее ребенком не интересуют Цемаха. Заступничество за служанку было для него всего лишь предлогом, чтобы уйти из дома…