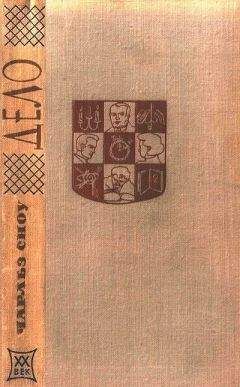— Садитесь, пожалуйста, господа, — сказал он, — прошу извинения за то, что мы так долго вас задержали. У нас возникли кое-какие трудности, когда мы стали формулировать свое решение.
Перед ним и перед Брауном лежали исписанные листы бумаги с вычеркнутыми абзацами, страницы, целиком покрытые аккуратным почерком и перечеркнутые крест-накрест, начатые черновики, отвергнутые резолюции.
Дворецкий уже выходил из комнаты, когда Браун подергал Кроуфорда за мантию и что-то шепнул ему.
— Одну минутку, Ньюби, — позвал Кроуфорд.
— Благодарю вас за напоминание, проректор. Я полагаю, все члены суда помнят, что мы в свое время торжественно обещали сообщить наше окончательное решение профессору Гэю, которого колледж избрал арбитром в настоящем деле. Мы, насколько я помню, условились, что наши юрисконсульты сообщат арбитру решение суда, лишь только оно будет подписано и скреплено печатью. Верно ли я говорю?
— Конечно, ректор! — сказал Доуссон-Хилл.
— В таком случае, — обратился Кроуфорд к дворецкому, — я попрошу, вас позвонить по телефону на квартиру профессора Гэя и попросить передать ему, что сегодня вечером два эти джентльмена будут у него.
Никто не улыбался. Никому, кроме меня, не казалось, по-видимому, досадной эта последняя задержка.
Дверь затворилась.
— Итак, с этим теперь в порядке, — сказал Кроуфорд, и Браун степенно кивнул.
— Ну что ж, господа, — начал Кроуфорд, — думаю, что теперь мы можем закончить наше дело. Но предварительно я хотел бы поделиться с вами некоторыми наблюдениями. Не как ректор, а как член колледжа и как человек, пятьдесят лет жизни которого прошли среди ученых, скажу вам — я нередко думал, что наши внутренние разногласия по большей части, вместо того чтобы прояснять умы, только разжигают страсти. Насколько я помню, подобное замечание мне приходится делать не в первый раз. Но, при всем уважении к моим коллегам, сомневаюсь, чтобы оно было когда-либо более справедливо, чем в применении к настоящему делу, которое, слава богу, мы сейчас наконец заканчиваем. Как ученый скажу, что иногда я склонен верить в существование особого furor academicum[38]. Однако по поводу именно этого злополучного дела как ректор скажу — я считаю, что на нас на всех лежит обязанность постараться всеми силами умерить разожженные им страсти. Вряд ли мне нужно говорить вам, что все то время, и сегодня особенно, пока члены суда весьма пространно и тщательно обсуждали этот вопрос, ни у кого ни разу не возникало мысли, что кто-либо из членов совета, — печальным исключением является человек, отрешенный первоначально судом от должности, — мог руководствоваться в своих поступках чем-либо, кроме добрых намерений и морального кодекса людей, посвятивших себя точным или гуманитарным наукам.
Это не было лицемерием. Это был тот особый официальный язык, на котором воспитывался Кроуфорд. По существу он мало чем отличался от официального языка государственных деятелей: говорилось одно — понималось другое. Смысл его речи заключался в том, что такие мысли были у всех и что из соображений благоразумия, своеобразной корпоративной гуманности, а также в целях соблюдения известного декорума, мысли эти нужно было гнать от себя прочь. Кроуфорд продолжал говорить. Теряя терпение, я слушал фразы, вставленные Брауном исключительно ради Найтингэйла. Я слушал, как старательно обходятся острые моменты, как объясняются «недоразумения», как тут же почтительно гладят по шерстке Фрэнсиса Гетлифа.
Наконец Кроуфорд сказал:
— Надеюсь, что эти несколько поверхностные замечания дадут нашим юрисконсультам кое-какое представление о тех трудностях, с которыми нам пришлось столкнуться, и помогут им понять, в каком направлении работали наши мысли. Считаю, что я как ректор колледжа и председатель суда старейшин должен сообщить им теперь о нашем решении. Это решение сформулировано уже в виде постановления. После того как мы выслушаем замечания, которые могут пожелать сделать наши юрисконсульты, оно будет записано.
Порывшись в бумагах, лежавших перед ним, он взял один листок.
— Это не оно, ректор, к счастью, не оно, — сказал старый Уинслоу. — Это одна из резолюций — одна из многочисленных резолюций, — которые мы с вами не сочли, если я могу так выразиться, вполне отвечающими назначению.
— Вот оно, ректор, — сказал Артур Браун бесстрастно, как и подобает хорошему секретарю.
— Благодарю вас, проректор!
Кроуфорд снял одни очки, надел другие, поудобнее уселся в кресле и начал читать:
— «Тридцатое июня тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. На состоявшемся сего числа заседании суда старейшин, на котором присутствовали ректор, мистер Уинслоу, мистер Браун и доктор Найтингэйл, было решено, при одном несогласном, следующее: разбор дела, продолжавшийся двадцать шестого, двадцать седьмого, двадцать восьмого и двадцать девятого июня в присутствии юрисконсультов, показал, что доказательства по делу не могут быть признаны достаточно вескими, чтобы подкрепить постановление об увольнении доктора Д. Дж. Говарда от девятнадцатого октября тысяча девятьсот пятьдесят второго года, и что таковое постановление настоящим аннулируется. Было решено также, что членство доктора Говарда будет рассматриваться как продолжавшееся без перерыва во весь тот период, пока он считался уволенным, и что ему должны быть выплачены сполна дивиденды и его оклад за это время; и что членство его будет продолжаться до истечения срока такового».
— Вы согласны с этим, Доуссон-Хилл? — спросил Кроуфорд, кладя бумагу на стол.
На одну секунду краска покрыла лицо Доуссон-Хилла. Затем небрежно, со свойственной ему надменной самоуверенностью он сказал:
— Не могу сказать, что меня очень радует такой исход, ректор.
— Если у вас есть еще какие-нибудь соображения, которые вы хотели бы высказать…
— А есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл?
— Мы очень благодарны вам обоим, — вставил Браун, — но, право, я думаю, дальнейшее обсуждение вопроса вряд ли может что-нибудь дать нам.
— Вы удовлетворены, Эллиот? — спросил Кроуфорд.
Единственное чувство, которое я испытывал, слушая его, было ликование, самое неприкрытое ликование — ликование одержанной победы. Но мне уже давно не приходилось слышать исключительного по своей замысловатости слога колледжских постановлений. Только в следующий момент я сообразил, что это неполная победа. Как и все остальные члены, сотрудники послевоенного периода, Говард был избран только на четыре года. Мы предполагали, что, если он будет восстановлен в должности, тот период, что он был отстранен, засчитан не будет. Они нашли простой способ засчитать его, уплатив ему деньги за этот срок, с тем чтобы избавиться от него, как только это позволит устав. Никому из нас такая возможность не приходила в голову.
— Когда истекает срок его членства? — спросил я.
Браун, увидев, что я понял, в чем суть дела, ответил:
— Тринадцатого декабря этого года.
— Что ж, — сказал я, — нельзя сказать, чтобы вы были в отношении его слишком щедры.
— Нет, Люис, — ответил Браун. — В меру своих возможностей мы даем ему вполне достаточно. Мы считаем, что поступили бы неразумно, дав ему больше.
— Конечно, — сказал Кроуфорд, — он сохраняет право быть избранным в постоянные члены совета, если — и когда — для этого представится вакансия. Хотя я считаю, что не в его интересах будет возлагать на это слишком большие надежды.
Браун снова обратился ко мне:
— Нет, Люис, он получает немало. Он получает по существу то, что хотел. Его репутация остается незапятнанной. Срок его членства истечет сам собой. Относительно же того, как мы это устроили, тут уж мы вправе подумать и о себе.
Все замолчали в ожидании моего решения; в тишине было слышно, как тикают часы.
— Со своей стороны, — сказал я, — думаю, что я могу принять этот приговор. Но я не уверен, что его примут все члены совета, которых я представляю.
— Тем самым они проявят серьезную безответственность, — сказал Браун. И добавил с несвойственной ему простотой и откровенностью: — Знаете ли, это далось нам далеко не так легко. Сделайте все возможное, чтобы убедить их. Хорошо?
Кроуфорд, который все еще сидел, удобно откинувшись в кресле, наклонил голову сперва вправо, затем влево. С довольной улыбкой он сказал:
— Ну что ж! Значит, договорились.
— Теперь я попрошу казначея, — продолжал он, — записать постановление.
Черновик передали Найтингэйлу, перед которым уже лежала открытая книга постановлений. С видом возбужденным и скорее приятно возбужденным, он сказал:
— Итак, значит, мне придется самому записывать в книгу свое «особое мнение». Тоже не всякому дается.
Светловолосая голова склонилась над книгой; он прилежно писал. Уинслоу, отвернувшись от него, отпускал едкие остроты насчет резолюций, которые Найтингэйл может «не трудиться записывать». У меня создалось впечатление, что большую часть дня Браун составлял черновики постановлений, исключавших большую часть свидетельских показаний и, следовательно, ограждавших от подозрений Найтингэйла; но как только формулировка их становилась чересчур определенной, Уинслоу заявлял, что «останется при особом мнении», если же формулировки были расплывчаты, Уинслоу, не без помощи Кроуфорда, высмеивал их, пока они не вычеркивались. Всю свою жизнь Уинслоу обожал редактировать. Уж сегодня-то он насладился!